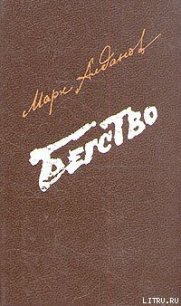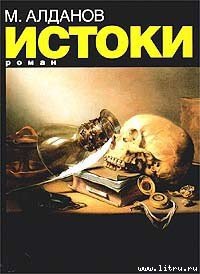Живи как хочешь - Алданов Марк Александрович (книги онлайн полные TXT) 📗
– Не хочу и не могу, – сухо ответил он. – Я тебе сто раз объяснял.
– Знаю, знаю, незачем объяснять в сто первый! Ты считаешь это «проституцией»! Я не считаю, и никто не считает, но это твое дело. Я убеждена, что Альфред Исаевич все равно мне работу даст. Наконец, скоро будут поставлены «Рыцари Свободы». Я буду получать жалованье. И я тебе тоже сто раз говорила, еще в Ницце, что не хочу и не могу жить на твои деньги.
Он спорил еще долго, но чувствовал, что спорит без желания переспорить.
«Да, она, как мы все, не может быть другой. Если никто никого не может переспорить, то уж тем более никто никого не может переделать. У нее свой «путь к счастью», это успех, «красивая жизнь», как у большинства людей. Может быть, она всего этого и добьется. Есть кинематографические звезды, которые так же далеки от искусства, как она"…
– Впрочем, еще будет время обо всем поговорить. Ты уже уложила вещи?
– Нет, еще не все. Кстати, мое лиловое имеет, кажется, бешеный успех, а стоило всего восемь тысяч, – сказала Надя.
Часов в одиннадцать в залу заглянул Макс Норфольк, совершавший свой вечерний обход парохода. Он попросил разрешения присесть. Они и на пароходе не раз разговаривали о самых разных предметах. «Умный и образованный человек, – думал о нем Яценко, – но у меня не лежит душа к людям, устраивающим ремесло из остроумия. Теперь он для меня особенно старается: догадался, что я его изобразил в Максе. И он все больше походит на моего Макса; вот уж именно не очень интересная жизнь старается подражать не очень хорошему искусству».
У Норфолька был необычный для него растерянный вид.
– Правда ли, м-р Джексон, что вы скоро собираетесь бросить кинематограф? – спросил старик.
– Да, это правда.
– Не мое дело давать вам советы, и вам, конечно, совершенно безразлично мое суждение, но я думаю, что вы правы. Мисс Надя сказала мне, что вы считаете работу над фильмами… Она употребила резкое слово. Это, конечно, так, хотя в теории могло бы быть совершенно иначе. Верно, вы будете писать романы?
– Может быть. Еще не знаю.
– Как я вам завидую! Я пробовал когда-то заниматься литературой, да не оказалось никакого таланта. Кроме того, мой общий коэффициент смешного в отношении людей оказался слишком высоким. Природу я люблю, но природа давно описана. Идеи тоже люблю, но тогда надо было бы писать философские книги. Если хотите, я и людей люблю, однако они в моем изображении всегда выходили бы слишком смешными и жалкими… Сам Марсель Пруст бессмертен, если можно так выразиться, мертвым бессмертием: его читают, но не перечитывают. Он был органически неспособен ценить красоту мира. Впрочем, и жестокая литература всегда отстает от жизни. Вы следили за процессами расистов?
– Конечно. Как все.
– Помните там фигуру Рудольфа Гесса? Его не надо смешивать с тем Рудольфом Гессом, который считался третьей особой Третьего, но не последнего Рейха, пока на процессе не оказался просто кретином. Нет, я говорю о другом человеке, занимавшем гораздо более скромное положение: он был начальником Аушвицкого лагеря и на процессе откровенно показал, что сначала отравил газами, а затем сжег в печи два с половиной миллиона людей, «потому что ему это приказал сделать Гиммлер именем Фюрера». Наладил фабричное производство с побочными продуктами, вроде волос, жира, золотых пломб. Согласитесь, что никакой романист этого не придумал бы. Предупреждаю вас, если б вы хотели изобразить этого господина, то вы потерпели бы полную художественную неудачу. Однако, в литературе сентиментальность еще хуже мизантропии. За нее критики тоже очень ругают. Все авторы боятся критики и, верно, после выхода книги с тревогой по ночам представляют себе все грубое и издевательское, что может сказать о них критик. Ведь публика не отдает себе отчета в том, что самая нелюбезная рецензия это только мнение о книге мистера Джонсона или мистера Томсона.
– Не знаю, что вы называете сентиментальностью, но если я еще буду писать пьесы или рассказы, то буду писать хороших людей.
– Я выбирал бы людей средних, т. е. тех, что все-таки ближе к хорошим, чем к дурным. Они, на зло мизантропам, составляют большинство в человечестве. Впрочем я вас понимаю. Вы человек серьезный, я сказал бы даже важный, разумеется «раздираемый сомнениями», но любящий добро, ищущий его и, главное, понимающий, в чем оно.
– Вы очень любезны, – перебил его Яценко. «Приблизительно то же самое мне говорил Николай Юрьевич, – подумал он. Эта мысль была ему приятна. – Но в том-то беда, что она мне приятна».
– Добавлю, что вы, как громадное большинство писателей, все упрощаете. Простите, что вам говорю это. Но, быть может, мы больше никогда не увидимся, отчего же на прощанье не сказать? Вы даете только первое приближение к истине. Ну, вот, скажем, вы познакомились с каким-нибудь человеком, поболтали с ним за вином, он любит выпить, он ничего не подозревает, у него плохая и глупая привычка откровенничать. А вы тут как тут: подметили кое-как кое-что, разумеется больше внешнее. И вот у вас персонаж, которым вы верно очень довольны. А он все-таки гораздо сложнее, чем вы думаете. А уж четвертого измерения вы и совсем не видите. Его видят только очень немногие гениальные писатели. Английский математик Хинтон, при помощи каких-то физических фокусов и психологических приемов, довел себя до того, что видел четвертое измерение. А вы не видите. Попадется вам Норфольк, – возьму и огрублю Норфолька, – сердито сказал старик. – У вас, кажется, и Лиддеваль навеян моим босс-ом. Только этого вы вдобавок приукрасили. Первое приближение к истине, первое приближение к истине. Вы думаете, что вы знаете людей? Так думают все писатели. Это чистейшая иллюзия. В ваших произведениях вы сами составляете человека, поэтому он вам и ясен. Так часовых дел мастер знает часы, которые он сам же собрал. А в жизни с людьми, не вами сочиненными, вы теряетесь. И не только вы, конечно. Все писатели таковы, кроме двух-трех человек. Все остальные, даже самые знаменитые, бессмертны, если можно так выразиться, только мертвым бессмертием.
– Да я ни на какое бессмертие не претендую, ни на живое, ни на мертвое, – ответил Яценко смущенно.
– Полноте, всякий солдат хочет быть, если не фельдмаршалом, то хоть фельдфебелем, а уж фельдфебельский жезл у каждого в ранце, – сказал Норфольк, поднимаясь. – Я впрочем немного преувеличиваю. Я не отрицаю, писатели кое-что видят из того, что от нас ускользает. И вы кое-что во мне увидели, это правда… Позвольте с вами проститься, мне еще надо зайти к босс-у. Кстати, он мне сегодня увеличил жалованье. Что ж, капиталистический строй имеет некоторые преимущества… Очень скромные сами по себе, но сильно выигрывающие от сравнения. Все прежние экономические системы были хуже его, а все предстоящие будут не лучше и уж во всяком случае скучнее. Я его больше и не ругаю, тем более, что тут на каждое общее место так легко ответить противоположным общим местом… Мой босс по крайней мере не скуп и вдобавок чрезвычайно любит женщин, что меня всегда подкупает в людях. Я должен отнести ему проект интервью, которое он завтра будто бы даст репортерам.
– В ваши обязанности входит и составление интервью?
– Я представлю проект, а он его забракует. Он уверяет, что всегда импровизирует и всегда выходит отлично. Я состою Аристотелем при этом Александре Македонском, но отвечаю за него еще гораздо меньше, чем Аристотель за Александра.
VIII
Пристань походила на исполинскую фабрику из фильма передового режиссера.
Пемброк с Надей спустились с парохода в числе первых. Надя была в еще более возбужденном состоянии, чем в тот день, когда садилась на пароход: попала в самую главную страну в мире! Альфред Исаевич объяснял ей все с таким гордым видом, точно Америка была его собственным имением, которое он очень хорошо и удобно обставил.
Багаж был разложен по первым буквам фамилий пассажиров; чемоданы Нади оказались далеко от вещей Яценко и Пемброка. Она всё волновалась, что их украдут, и не хотела было отходить, но Альфред Исаевич, улыбаясь, объяснил ей, что этого никак быть не может. Все же он приставил к вещам носильщика и повел Надю в большую освещенную сверху залу, где дамы какой-то благотворительной организации угощали приезжих Ди-Пи кофе в картонных стаканчиках, бутербродами и сухим печеньем. Надя смотрела на них с восторгом. Нигде в мире этого не было. Ди-Пи были именно такие, какими им надлежало быть: испуганные, растерянные, плохо одетые; они с изумлением принимали картонные стаканчики от улыбавшихся дам. «Верно, бедные, лет десять, а то и всю жизнь, не слышали ласкового слова!» – говорила вполголоса Надя.