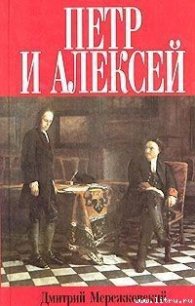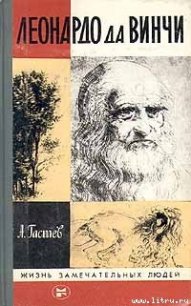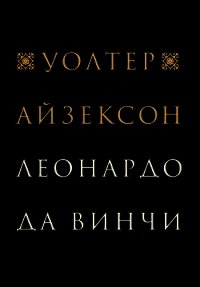Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи - Мережковский Дмитрий Сергеевич (книги без регистрации полные версии txt) 📗
Марко-Антонио также чувствовал тайну в явлениях природы, но не смирялся перед нею и, не будучи в силах ни отвергнуть, ни победить ее, боролся с нею и страшился ее. Наука Леонардо шла к Богу; наука Марко-Антонио – против Бога, и утраченную веру хотел он заменить новою верою – в разум человеческий.
Он был милосерд. Нередко, отказывая богатым, ходил к беднякам, лечил их даром, помогал деньгами и готов был отдать им все, что имел. У него была доброта, свойственная людям не от мира сего, погруженным в созерцание. Но когда речь заходила о невежестве монахов и церковников, врагов науки, лицо его искажалось, глаза сверкали неукротимою злобою, и Леонардо чувствовал, что этот милосердный человек, если бы дали ему власть, посылал бы людей на костер во имя разума, точно так же, как враги его, монахи и церковники, сжигали во имя Бога.
Леонардо в науке был столь же одинок, как в искусстве; Марко-Антонио окружен учениками. Он увлекал толпу, зажигал сердца, как пророк, творил чудеса, воскрешал больных не столько лекарствами, сколько верою. И юные слушатели, как все ученики, доводили до крайности мысли учителя. Они уже не боролись, а беспечно отрицали тайну мира, думали, что не сегодня, так завтра наука все победит, все разрешит, не оставит камня на камне от ветхого здания веры. Хвастали безверием, как дети обновкою, буйствовали, как школьники, – и победоносная резвость их напоминала визгливую резвость щенят.
Для художника изуверство мнимых служителей знания было столь же противно, как изуверство мнимых служителей Бога.
«Когда наука восторжествует, – думал он с грустью, – и чернь войдет в ее святилище, не осквернит ли она своим признанием и науку, точно так же, как осквернила церковь, и будет ли менее пошлым знание толпы, чем вера толпы?»
В те времена добывание мертвых тел для анатомических сечений, воспрещенных буллою папы Бонифация VIII Extravagantes, было делом трудным и опасным. Двести лет назад Мундини деи Луцци, первый из ученых, дерзнул произвести всенародное анатомическое сечение двух трупов в Болонском университете. Он выбрал женщин, как «более близких к животной природе». И тем не менее совесть мучила его, по собственному признанию, так что анатомировать голову, «обиталище духа и разума», он вовсе не посмел.
Времена изменились. Слушатели Марко-Антонио были менее робки. Не останавливаясь ни перед какими опасностями и даже преступлениями, добывали они свежие трупы: не только покупали за большие деньги у палачей и больничных гробовщиков, но и силой отнимали, крали с виселиц, вырывали из могил на кладбищах и, если бы учитель позволил, убивали бы прохожих по ночам в глухих предместьях.
Обилие трупов делало работу делла Торре особенно важной и драгоценной для художника.
Он готовил целый ряд анатомических рисунков пером и красным карандашом, с объяснениями и заметками на полях. Здесь, в приемах исследования, еще более сказывалась противоположность исследователей.
Один был только ученый, другой – и ученый, и художник вместе. Марко-Антонио знал. Леонардо знал и любил – и любовь углубляла познание. Рисунки его были так точны и в то же время так прекрасны, что трудно было решить, где кончается искусство и начинается наука: одно входило в другое, одно сливалось с другим в неразделимое целое.
«Тому, кто мне возразит, – писал он в этих заметках, – что лучше изучать анатомию на трупах, чем по моим рисункам, я отвечу: это было бы так, если бы ты мог видеть в одном сечении все, что изображает рисунок; но, какова бы ни была твоя проницательность, ты увидел и узнал бы лишь несколько вен. Я же, дабы иметь совершенное знание, произвел сечения более чем десяти человеческих тел различных возрастов, разрушая все члены, снимая до последних частиц все мясо, окружавшее вены, не проливая крови, разве только чуть заметные капли из волосяных сосудов. И когда одного тела не хватало, потому что оно разлагалось во время исследования, я рассекал столько трупов, сколько требовало совершенное знание предмета, и дважды начинал одно и то же исследование, дабы видеть различия. Умножая рисунки, я даю изображения каждого члена и органа так, как будто ты имел их в руках и, повертывая, рассматривал со всех сторон, внутри и снаружи, сверху и снизу».
Ясновидение художника давало глазу и руке ученого точность математического прибора. Никому не известные разделения вен, скрытые в соединительных тканях или в слизистых оболочках, тончайшие кровеносные сосуды и нервы, разветвленные в мышцах и мускулах, ощупывала скальпелем, обнажала левая рука его – такая сильная, что гнула подковы, такая нежная, что улавливала тайну женственной прелести в улыбке Джоконды.
И Марко-Антонио, не желавший верить ни во что, кроме разума, испытывал порой смущение, почти страх перед этим вещим знанием, как перед чудом.
Иногда художник говорил себе: «Так должно быть, так хорошо». И когда, исследуя, убеждался, что действительно так есть, то воля Творящего как будто отвечала воле созерцающего: красота была истиной, истина – красотою.
Чувствуя, что Леонардо предается и науке, как всему, только на время и сохраняет свободу для новых увлечений, точно играя, Марко-Антонио вместе с тем видел, какого бесконечного терпения, какой «упрямой суровости» требует работа, казавшаяся в руках учителя игрой и забавою.
«И ежели ты имеешь любовь к науке, – обращался Леонардо в своих заметках к читателю, – не помешает ли тебе чувство брезгливости? И ежели ты преодолеешь брезгливость – не овладеет ли тобою страх в ночные часы перед мертвецами, истерзанными, окровавленными? И если победишь ужас, окажется ли у тебя сокровенно ясный предварительный замысел, необходимый для такого изображения тел? И ежели есть у тебя замысел, обладаешь ли ты знанием перспективы? И ежели оно есть у тебя, владеешь ли ты приемами геометрических доказательств и потребными сведениями в механике для измерения сил и напряжения мускулов? И, наконец, хватит ли у тебя самого главного – терпения и точности? Насколько я обладаю всеми этими качествами, покажут сто двадцать книг Анатомии , которые я сочинил. И причина того, что я не привел труда моего к желанному концу, – не корысть или небрежность, а только недостаток времени.
Точно так же, как до меня Птоломей описывал мир в своей Космографии , я описываю человеческое тело – эту маленькую вселенную – мир в мире».
Он предчувствовал, что труды его, если б были узнаны и поняты людьми, произвели бы величайший переворот в науке, ждал «последователей», «преемников», которые могли бы оценить в его рисунках «благодеяние, оказанное им человеческому роду».
«Пусть книга о началах механики, – писал он, – предшествует твоему исследованию законов движений и сил человека и других животных, дабы ты мог, ссылаясь на механику, доказывать всякое положение анатомии с ясностью геометрическою».
Он рассматривал члены людей и животных как живые рычаги. Корни всякого знания погружались для него в механику, которая была воплощением «дивной справедливости Первого Двигателя». И благая воля Первого Строителя вытекала из правосудной воли Первого Двигателя – Тайны всех тайн.
Рядом с математической точностью у Леонардо были догадки, предчувствия, пророчества, которые пугали Марко-Антонио своею смелостью, казались ему невероятными, подобно тому, как человеку, видящему горы в первый раз, далекие вершины кажутся облаками, висящими в воздухе, и трудно ему поверить, что у этих призраков – корни гранитные, уходящие в сердце земли.
Изучая на трупах беременных женщин последовательные ступени развития зародыша в матке, Леонардо поражен был сходством в строении тел людей и животных, не только четвероногих, но и рыб и птиц.
«Сравни человека, – писал он, – с обезьяною и многими другими животными почти той же породы. Сравни внутренности человека с внутренностями обезьяны, и льва, и быка, и рыб, и птиц. Сравни пальцы человеческой руки с пальцами медвежьей лапы, с хрящами рыбьих плавников, с кистями птичьих крыльев и крыльев летучей мыши.