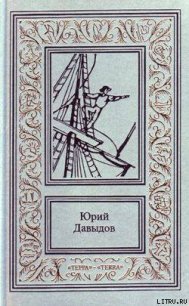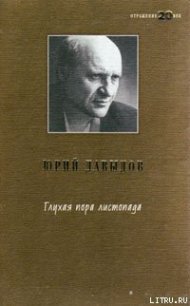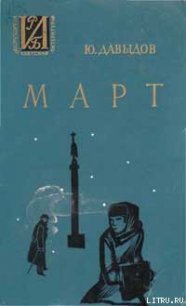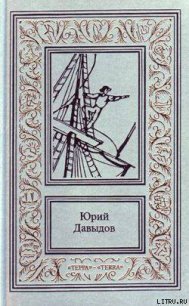Соломенная Сторожка (Две связки писем) - Давыдов Юрий Владимирович (книги онлайн полные txt) 📗
В сумраке, в отсветах свечей так тяжко, так печально и тяжко видеть этих молодых людей в минуты молчаливого расставания – ни щепотки сторонней примеси, только застенчивая любовь, сострадание каждого к каждому.
Я вижу склоненную русую голову Сашеньки Севастьяновой, – совсем немного до того дня, когда она метнет бомбу в московского генерал-губернатора, у него лишь кокарду сорвет, а она рухнет на мостовую с выбитым глазом и проломленным черепом; ее перевяжут в Басманной больнице и поволокут на шаткий, наспех сколоченный помост – повесят «неизвестную»: она не назовет своего имени, оберегая от провала товарищей.
Ее соседка, Маша Беневская, разливает чай, розовеет подбородок и тонкое запястье, а руки изранены, правой кисти будто уже и нет – отсечена метательным снарядом на конспиративной квартире, осколками искромсано лицо; то-то глумится смотритель Мальцевской тюрьмы, однако и головой испуганно качает, не понимая, как у этой Беневской Марии достало сил очистить квартиру и запереть входную дверь, сжимая ключ зубами.
Маша Беневская разливает чай, стакан в подстаканнике принимает Лев Иваныч Зильберберг, у него пышные, густые черные усы. Ему вскоре предстоит вывести боевиков на фон дер Лауница, беззаконно убивавшего тамбовских мужиков-повстанцев, а потом и на главного военного прокурора Павлова, законно убивавшего мужиков-подсудимых… Зильберберг наклоняется к Маше Беневской, к Сашеньке Севастьяновой и шепчет, шепчет, счастливо улыбаясь. Уж не о том ли, что стал отцом? Не об этом ли? Из Трубецкого бастиона он вскоре напишет жене: «Я отказался от свидания. Для каждого человека есть предел духовных страданий… Когда я представляю себе ее, эту маленькую девочку, которую я не знаю и которую так люблю, представляю, как она будет смотреть и не понимать, что происходит, быть может, даже заплачет, увидев незнакомое лицо… я не могу. Прощай… Это ужасное слово как будто носится в воздухе и, как звук колокола, замирая, становится все тише и тише».
Но все громче, все громче звучит «прощай» в четком ритме военного парохода: Зильберберга везут и задушевного друга его Митрофана Сулятицкого тоже везут на Лисий нос… Песок и камни, и каржавые дубравы, и хвойный лес. Отсюда, с Лисьего, в годы Отечественной переправлялись наши на Приморский плацдарм, а за глухим высоким забором, в бревенчатом неприметном доме лихие ребята в тельняшках снаряжались в смертельно опасные рейды по вражеским тылам… Все громче и громче звучит «прощай» в четком ритме военного парохода – Зильберберга везут и Митрофана Сулятицкого: песок, камни, высокие сосны – прозелень рассвета над виселицей.
Все было бы иначе, если бы тем пароходом командовал лейтенант Никитенко! Кудлатый, узколицый, с ямочкой на подбородке, он курит, прищуриваясь, а я гляжу на него и думаю, как хорош был этот рослый и стройный человек на борту черноморского миноносца. Ему едва за двадцать, Борису, а он уже в отставке, он в штатском сюртуке: мундир и убеждения оказались несовместными. Да, если б Никитенко распоряжался проклятой железной коробкой, в которой возили смертников на Лисий нос. Но месяц спустя, вслед за Зильбербергом и Сулятицким, услышал и он это «прощай», ибо оказался виновным «в приуготовлении к посягательству на священную особу государя императора». Я читал его предсмертные строки: «О себе писать решительно нечего. Скажу только, что спокоен и совершенно готов ко всему».
Вижу его на дамбе, на берегу, на лесной дороге к казарме, к пороховому складу, к виселице. Но нет уже раннего рассвета, а есть уже августовские ночи, и потому у конвойных фонари. Как и всех до него, как и всех после него, ведут Бориса трое жандармских унтеров. И уже не «прощай» гремит в моих ушах, а кандальное железо, ручное и ножное. Казенное это имущество вернут в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, – кто следующий за флота лейтенантом Борисом Никитенко?
Все пройдет, все минется. Купишь справочник, толкующий названия географических пунктов, – просветишься: на Лисьем-то носу, оказывается, «прекрасный пляж» и «отель на 400 мест для иностранных туристов», и еще, и еще разное. Да только не прочтешь, кто и когда принял смерть там, где нынче «ведется большое жилищное строительство». Все пройдет, все минется. Роскошным прогулочным теплоходом плыл я из Перми в Ленинград, флаг не был приспущен на траверзе Шлиссельбурга. Хором грянуло: «А молодой туристке дома не сидится, она берет туриста и едет веселиться…» Пройдет все и минется. Но сейчас, в сумраке, в отсветах свечей и каминного пламени, я ловлю взгляд Тани Лапиной. Танечка Лапина, суровая и нервная, ты питаешь безграничное доверие к Ивану Николаевичу, нет тебе человека дороже, ты накрепко связана с ним работой в терроре, а ведь не за горами весна, когда ты пустишь пулю в висок. Не потому лишь, что тебя заподозрят в измене, а потому, что изменник именно этот человек.
Он безобразен, у него широкое, скуластое, низколобое каменное лицо. И каждый, кто сейчас в «Сосьете», впервые встретив Ивана Николаевича, испытал чувство почти отталкивающее, почти враждебное. Испытав – стыдился. Он был столпом партии. Он возглавлял БО. Он всегда и всюду, зримо иль незримо с ними.
Иван Николаевич говорит изредка, нехотя, лениво. Я нет-нет да и задерживаю взгляд на его руках – маленьких, точеных, женственных, словно бы чужих, сторонних громоздкому, тяжеловесному торсу. В этих руках нет ничего зловещего, а ведь они-то и намыливают веревку, ибо тот, кого называют простецкой, конспиративной кличкой, не кто иной, как Азеф.

А чуть поодаль, у камина, полулежит в ковровой качалке мой ровесник. Он вдвое старше боевиков. Здесь все величают белобородого Марком Андреевичем, и это не кличка, а подлинные имя-отчество. Он вперился в камин. Пламя придает его резко-морщинистому лицу, давно и навсегда обожженному якутскими стужами, сходство с индейским вождем. На губах Натансона, если наблюдать пристально, ловишь странную полуулыбку – то ли недоверия, то ли презрения. Сознаюсь, мне не по вкусу и взгляд Натансона: не то чтобы смотрит, а как бы ощупывает. Но вот ведь люди, высоко мною чтимые, отмечали его энергию, уверяли, что он пользовался уважением, товарищем был редкого бескорыстия. А для тех, кто сейчас в этом низеньком зале, Натансон Марк Андреевич живая история. У него былое, о котором еще не успели поведать страницы бурцевского «Былого», две книжки которого я вижу в углу на пустом стуле. Да, живая история: один из учредителей «Земли и воли», участник политической демонстрации у Казанского собора, устроитель побега Кропоткина из тюремной палаты военного госпиталя…
Спору нет, живая история. Но отчего же он молчит, Марк-то Андреевич? Почему он не скажет об уроках прошлого этим обреченным, жестоко ошибающимся молодым людям? Не потому ли, что и сам не извлек этих уроков? Не потому ли, что пребывает в шорах минувшего? Не потому ли, что глух к опытам революции?.. Какая странная полуулыбка возникает под его усами и, слабо струясь, исчезает в окладистой бороде… Но вот он кладет руки на подлокотники кресла-качалки, кивает, соглашаясь на общие просьбы, и я ловлю в себе почти ненависть к этому человеку с резко-морщинистым лицом. Уж лучше бы он отмолчался, а не приступил к рассказу о своем первом аресте.
Нет, приступил.
Давно, в начале семидесятых, слушателем Медико-хирургической, он горячо ввязался в студенческие беспорядки. И как раз тогда же нежданно-негаданно получил из Женевы пакет: «Передать Натансону». Отправителем был… Нечаев. Да, да, Сергей Геннадиевич Нечаев. Нет, с Нечаевым он не дружил. Напротив! Ибо в ту пору размышлял о соотношении этики и революции, прямо-таки болел вопросами этическими. А вот и, пожалуйста, пакет Нечаева с конспиративными поручениями. И ты тотчас, конечно, на крючке у Третьего отделения. Как же иначе? А между тем…
– Я и сегодня здесь, среди вас, на том самом пути, на котором бросил меня Нечаев. Если я имел основания быть недовольным Нечаевым за свой арест, сознательно им вызванный, то моя вечная ему признательность за то, что он разом вырвал меня из окружающей среды и обстановки и поставил на революционную дорогу.