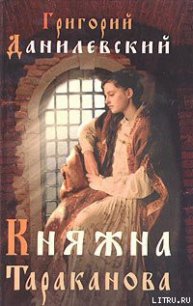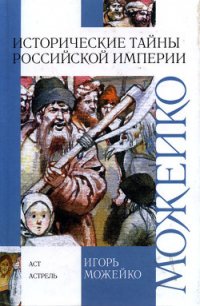Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин" (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
— Граф, вы меня смущаете! — проговорила Али-Эметэ кокетливо, но робко, видимо в волнении, и тая от восторга перед его увлечением. — Я бы согласилась на это в таком только случае, Сели бы... если бы...
Она задрожала от своей мысли, однако ж осилила себя и мягко, с выражением томности и неги, проговорила:
— Если бы вы согласились разделить со мной бремя правления.
Слово было брошено, а Орлов был не такой человек, чтобы им не воспользоваться. Но он и тут не торопился. Он видел, что она во всякую минуту может быть его; что от него зависит потребовать от неё всё, что можно требовать от женщины, и она будет не в силах ему сопротивляться, не в силах отказать; стало быть, нужно немножко терпения. Нужно маленькое терпение до тех пор, пока страсть не дойдёт до предела, когда шаг далее — уже безумие.
Провожая из сада Али-Эметэ к её дворцу, Орлов случайно наткнулся на четырёх человек полупьяных гвардейцев тосканского герцога Леопольда, брата германского императора, сына Марии Терезии, королевы австрийской и венгерской. Флорентийские гвардейцы считали себе дозволенным в недавно присоединённом к их герцогству славном городе Пизе, потерявшем уже прежнюю свою силу и величие, немножко посвоевольничать и побушевать, как везде, где администрация опирается исключительно на военную силу.
Видя хорошенькую женщину, провожаемую одним, когда их было четверо, они начали к ней приставать. Необыкновенная сила Орлова выручила её из неприятного и опасного приключения. Первый, который подошёл к ней близко, получил удар, подбросивший его кверху и заставивший отлететь шагов на десять прежде, чем он упал. Едва ли после такого удара он остался жив; по крайней мере, в ту минуту он лежал без движения. Три других, разумеется, не смели подойти, но побежали звать товарищей, чтобы остановить убийцу. Орлов торопит Али-Эметэ идти; но та, истомлённая продолжительной прогулкой и волнением, не могла. Тогда он подхватил её, как пёрышко, посадил к себе на плечо и, сказав, чтобы она держалась за его голову, зашагал своими исполинскими шагами. Через две минуты Али-Эметэ была уже в своём дворце.
С этой ночи Али-Эметэ только и думала, что о нём, о своём герое, своём Алексее, который везде её защитит, везде охранит. Он даст ей царство и будет им управлять как её друг, муж-правитель, так точно, как управлял Англией Вильгельм Оранский.
«Почему же нет? — думала Али-Эметэ. — Он будет любить меня, беречь, лелеять. Ведь через меня он получит царство, империю. А он честолюбив. Не буду же я Екатериной, которая, в благодарность за корону, отправила его, как он говорит, в почётную ссылку, надеясь, что в борьбе с турками он сложит свою буйную голову. Нет, я эту голову буду беречь, охранять, украшу её короной, которую через него же получу. Но нужно связать это крепче, нужно привязать его к себе, приковать, как невольника, как приковала я к себе князя лимбургского, Чарномского, Доманского, Шенка и этого бедного Ван Тоуэрса. Освободили ли его, бедняка, из тюрьмы кредиторы?.. Нужно приковать, а для того нужно заставить Орлова забыть на минуту свою ко мне почтительность, как к государыне, для любви к женщине; нужно увлечь... Мужчина никогда не оставляет меня, когда я ему отдаюсь. Но эти русские так нерешительны... А как он силён, как могуч!»
В этих мыслях, млея от собственной своей мечты, Али-Эметэ перебирала все средства, чем бы можно было вызвать со стороны Орлова увлечение её красотой до самозабвения, до страсти...
А Орлов, возвратясь к себе и целуя ожидавшую его страстную графиню Чириолли, жившую у него, к великому огорчению его дальней родственницы Катерины Львовны Давыдовой, уже целые три дня, так как она отпросилась у своего мужа ехать в Рим принять благословение вновь избранного святого отца папы и участвовать в тамошних празднествах, — в это время думал:
«Баба-то, всклепавшая на себя имя, втюрилась, кажется, в меня порядочно. Ну что ж — и дело! Пора, давно пора! Б Петербурге просто горят от нетерпения. А врёт-то как здорово, без милосердия врёт! Чего тут не придумала: и визирь-то персидский, и прусский король Фридрих, и корону-то разделит... Дело хорошее, было бы что делить!.. Ну, ладно! Осчастливим, осчастливим, успокойся! Не плачь только потом!..»
И он подписал приказание лучшим судам своей эскадры прибьггь с Паросского рейда в Ливорно.
Никита Юрьевич Трубецкой вошёл совершенно измученным в свой кабинет после чая, за которым он представлял своему семейству и своей Китти князя Юрия Васильевича Зацепина, долженствующего получить по наследству тридцатимиллионное состояние. Этот будущий миллионер держал себя до того нелепо, что с первого же раза вызвал к себе общее презрение. Он был до того дик, что не удержался, чтобы не похвастаться перед его женой и дочерью даже своей рекрутской операцией и не рассыпаться в жалобах на то, что его заставили такое выгодное дело прекратить. Он и княжне Китти предложил тот же вопрос, который предлагал князю Никите Юрьевичу.
— Если я их купил, заплатив деньги, то мои они или не мои? Если мои, то кто же может мешать мне делать с моими людьми, что я хочу? Если же не мои, то зачем же заставляли меня за них деньги платить? За что казна взяла пошлину, совершая купчую крепость? Говорят-с, — прибавил, сюсюкая, Юрий Васильевич, ни с того ни с сего вздумав вдаться в учёность, — в Риме-с прежде, не в нынешнем-с, а в прежнем-с, императорском Риме, были тоже-с рабы у тамошних господ... как они звались-то?.. да, патриции-с. Так что же-с? Они откармливали ими своих мурен, — рыба такая у них была-с, — чтобы вкуснее стала. Разумеется-с, по-моему, это было очень глупо со стороны римских господ, потому что невыгодно-с. Ну, скормишь раба рыбе, скушаешь рыбу — и не будет ничего; тогда как раб мог бы работать-с или оброк-с платить. Так это было очень глупое обыкновение. Но законно, совершенно законно по римскому праву, потому что если уж он раб мой, так он мой, и я могу делать с ним, что хочу-с. А у нас какой это закон?
Китти за эту учёность его, — заметил Никита Юрьевич, — бросила на него такой взгляд, который мог исходить только от полного отвращения. «Да кого и не отвратят подобные рассуждения, особливо с его шепелявеньем и сюсюканьем? — подумал Никита Юрьевич. — Но тридцать миллионов, тридцать миллионов!..»
И вот, с одной стороны, ему вспоминается, как его опозорили, выгнали, с царства отправили прямо в ссылку.
С другой — рисуется возможность отплатить жестоко своим врагам, имея в своём распоряжении такой капитал, который даст силу интриге и поддержит разгоревшееся восстание.
Затем мерещатся ему массы злодейств, которые это восстание производят: вешание помещиков с чадами и домочадцами, гибель церквей и служащих при них, разорение края. И этому всему он виноват, он!..
Потом мысли его перешли на медленность появления выдуманной им княжны, уклонение от неё иезуитов, слабость действий конфедерации, колебания Франции и, в заключение, Китти и её естественное отвращение от такого жениха, которого не прикрасишь ни княжеским титулом, ни золотым мешком.
Всё это мучило Никиту Юрьевича, томило, волновало, выводило из себя. А тут ещё вспоминалось и прошлое: Долгоруковы, Головкин, Бестужев, Бирон, пытки, казни, которые когда-то он назначал и производил, чтобы или мстить за себя, или угодить другим. А Лопухина? А Ягужинская, бывшая потом за Михаилом Бестужевым? А первая жена его? Всё это его, чисто его дело. И в заключение всего опять: «Опозорили, выгнали». Стоило ли из-за этого биться?
Вошёл Евсеич и сказал, что княжна Катерина Никитична прислала спросить, может ли она прийти к отцу.
— Проси! — отвечал князь.
«Она пожертвует собой для меня, — подумал Трубецкой, — пожертвует собой для мщения за имя князей Трубецких, не прощающих обиды. О, милая, дорогая, любимая дочь, мне жаль тебя, жаль!.. Но опозорили, выгнали...»
Княжна Китти вошла. С минуту молчали и отец, и дочь. Друг от друга ждали первого слова.