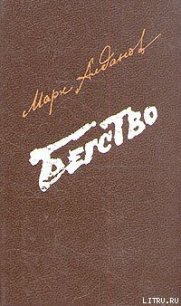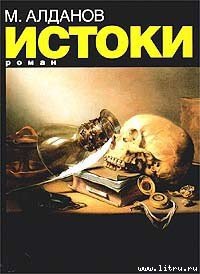Живи как хочешь - Алданов Марк Александрович (книги онлайн полные TXT) 📗
Они записались на premier service, и к завтраку их звал гонг ровно в двенадцать. Подавалось множество блюд, одно лучше другого. После завтрака Надя опять бегала по палубе, – теперь полагалось двадцать кругов. Альфред Исаевич, проходя по палубе в свою каюту, для отдыха, испуганно на нее смотрел, как на тихопомешанную, хотя привык к кинематографическим артисткам и больше ничему у них особенно не удивлялся. Делавар гулял с Надей, описывал сокровища своего люксембургского замка (о своих вещах он мог говорить часами, они все были изумительны). Спрашивал ее, любит ли она Апокалипсис и виденье саранчи, говорил ей, что у женщин есть тридцать прелестей: три красные – губы, ногти, щеки, – три белые – кожа, зубы, руки, – три черные, – глаза, брови, ресницы – перечислял на память все тридцать. Она слушала не без удовольствия, но думала, что этот прославленный делец глуп. Глаза у него при разговорах с ней блестели почти неприлично. «Конечно, я могла бы женить его на себе», – думала Надя; удовольствие было двойное: от того, что «могла бы женить», и оттого, что и не подумает это сделать. Физически он ей нравился, нравилось и его увлечение, переходившее, как ей иногда казалось, в настоящую страсть. «Но, во-первых, я никогда Виктора не брошу, а во-вторых, это было бы просто смешно до глупости: как это я буду замужем за левантийским богачом, который и по-русски ни слова не знает! Нет уж, русская и должна идти за русского. Главное же, я нисколько не люблю его. Ни в коем случае не заходить в его каюту: уж очень он зовет, а кто там их знает, левантийцев?"
В три часа Надя, Пемброк и Делавар ходили в кинематограф. В пять сходились в гостиную на бридж. В семь полагались еще круги, и наступало лучшее время: обед, к которому одевались. Надя окончательно убедилась, что не полнеет, и почти не соблюдала режима. Стюард приносил по рюмке ледяной водки Пемброку и Яценко, замысловатые коктэйли Делавару, французские аперитифы Наде, – она решила перепробовать по дороге разные напитки и каждый вечер заказывала другие. Пили все больше обычного. Альфред Исаевич неизменно говорил, что Суворов пил английское пиво с сахаром. – «А все-таки, Наденька, очень много есть и пить не надо, – рассудительно советовал Пемброк Наде, – все надо делать в меру, вы лучше не бегали бы по палубе, как сумасшедшая, три раза в день. Зачем вы это делаете? Только еще что-нибудь себе наживете. Какое у вас давление крови?» – «У меня нет никакого давления крови!» – возмущенно отвечала Надя. – «Вот я же не бегаю по палубе, хотя мне сам Мак-Киннон сказал, что у меня сердце как у молодого человека"… Проглотив с видом человека, берущего крепостной вал штурмом, свою рюмку ледяной водки, он приходил в еще лучшее, уж совсем праздничное настроение. Делавар с восторгом смотрел на Надю и старался ее забавлять. Он оказался недурным имитатором и отлично подражал кинематографическим звездам. Этот род дарования всегда изумлял Яценко, – сам он был совершенно его лишен; обладали же даром подражания нередко ограниченные и даже просто глупые люди. „Выходит так, они видят в человеке такое, что от умных ускользает, – с недоумением думал Виктор Николаевич. – Зато этот господин сам точно создан для имитаторов, разве только неизбежно будет походить на карикатуру: он живая карикатура на самого себя“.
После обеда Пемброк решительно отказывался играть в бридж. На пароходе каждый вечер танцовали, либо в большой зале, либо в главной кофейне, в средине которой пол, нарочно для танцев, был сделан из очень толстого стекла, освещавшегося вечером снизу разноцветными огнями. Альфред Исаевич любовался танцовавшими парами и, одобрительно кивая головой, говорил, что обожает румбу; впрочем, иногда забывал, что надо любить все новое, и с видом отставного удальца, утверждал, что ничто не может сравниться с полькой, венгеркой и мазуркой. Делавар знал все новые танцы и танцовал их с Надей, тут же объясняя ей, как их надо танцовать. Крепко держа ее за талию и за руку (он рассчитывал при этом на магическую силу своего рукопожатия), говорил о красоте ее ножек, говорил о фресках Пьеро делла Франческа, повторял, что поставит для нее грандиозный фильм, и с очень значительным видом шептал, что она непременно, непременно должна посмотреть замечательные boiseries в его каюте. При этом зрачки его красивых глаз опускались. В его словах часто не было ничего глупого, но говорил он их так, что от них веяло глупостью, и вид при этом имел очень значительный, какой мог быть, например, у номиналистов, когда они вели философский спор с реалистами. Наде, при разговорах с ним наедине, было и забавно, и приятно, и немного жутко. Часов в десять, когда читать надоедало, заходил в зал Яценко и посматривал то на Надю, то на Делавара.
Надя в первый же день, смеясь, ему объяснила, что ей от Делавара нужно.
– …Конечно, он в меня влюблен, – говорила она весело. – Ты знаешь, я даже думаю, что, если бы я очень хотела, то он на мне женился бы.
– Я этого не думаю, но что ж, попробуй.
– Ей Богу, женился бы! Он предпочел бы так, но если так нельзя, то женился бы, даю тебе слово Пемброка! И согласись, это очень мило с моей стороны, что я за него не выхожу. У него миллиард франков, и моя карьера в кинематографе была бы молниеносной.
– Отчего же, выходи за него замуж. У меня миллиарда нет, и я тебе молниеносной карьеры обеспечить не могу.
– Ты просто скромная недурная партия, а Делавар партия превосходная. И если хочешь, он даже мне нравится, он очень сильный и властный человек. Ты вот думаешь, что ты его «активизировал» в Лиддевале? То есть, ни малейшего сходства нет, кроме того, что оба деловые люди. Ты вообще слишком упрощаешь людей. Твой Лиддеваль мелкий жулик. А Делавар правду говорит, что для него деньги – ничто. Альфред Исаевич его называет трубадуром! Скажи я ему одно слово, он мне отдаст половину своего состояния.
– Вот ты попробуй.
– Я тебе говорю, что отдаст! И через год снова их наживет!
– У тебя даже глаза заблестели. Что ж, выходи за трубадура замуж. Совет да любовь.
– Нет, уж не стоит менять. Дай, думаю, выйду за тебя. Жалко ведь: ты без меня пропадешь.
– Как-нибудь проживу. И все ты врешь: ты с Делаваром горда, как Юнона, к которой пристал простой пастух Эндимион.
Она смеялась.
– Ты теперь и говорить стараешься, как твой Дюммлер!
Утром он гулял с Надей по палубе, еле поспевая за ее гимнастическим шагом. «Ах, ее несчастная vitality!» – теперь со вздохом думал Яценко, и прежде так восторгавшийся этим ее свойством. Отбыв повинность, он большую часть дня проводил в кресле на палубе. На пароходе выходила каждое утро газета. В ней появились заблаговременно напечатанные во Франции статьи, объявления, заметки, но две страницы отводились последним, получавшимся по беспроволочному телеграфу новостям. Именно вследствие сжатости этих новостей, из пароходной газеты еще больше, чем из других, было ясно торжество зла над добром в мире. На одной странице сообщалось о действиях разных гангстеров, на другой о действиях некоторых правительств, и порою совершенно нельзя было понять, чем одни отличаются от других. «Конденсированное зло, как есть конденсированное молоко. Как же могут при этом уцелеть идеи, о которых в моей пьесе кратко говорит Лафайетт? Эти идеи устарели, но их дух, „лафайеттизм“, со всеми необходимыми огромными поправками и дополнениями к нему, это все же единственное, что может помешать превращению мира в грязное кровавое болото. И, разумеется, тьма теперь идет с востока. Договор с разными Александрами Невскими, заключенный большевиками в 1941 году, просуществовал столько же времени, сколько их договор с Риббентропом. Великое же несчастье человечества в том, что разрешен будет моральный спор лишь в зависимости от соотношения военной мощи. Ничем не могут помочь и Объединенные Нации, где из произносящихся ста слов девяносто девять лживы или слащаво-лицемерны, как те надгробные речи, которые своим полным противоречием правде об умершем производят на людей, его знавших, впечатление неприличия или издевательства… О моем отце ничего нигде не писали». Он вспомнил похороны матери. Слишком страшно было думать о том, что теперь лежало под могильным памятником на петербургском кладбище. «А папа вообще неизвестно где был закопан. А я пожимал руку его убийцам».