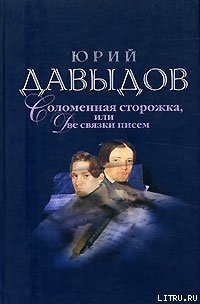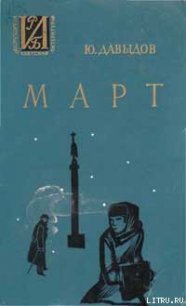Глухая пора листопада - Давыдов Юрий Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
Доктор советовал Тихомировым покинуть Париж. Полицейский комиссар «советовал» убраться в провинцию. Ла-Рэнси? Час езды от Парижа – и уже деревня.
Час от Парижа – и уже провинция, департамент Сены и Уазы.
Ла-Рэнси обладало еще одним – бесспорным для Тихомирова – достоинством. Поезда ходили туда с Восточного вокзала, далекого от Латинского квартала, гнездовья русских эмигрантов.
Тихомиров еще не порвал с ними, как некогда, в юности, порвал с верой; Тихомиров отдалялся от них, как теперь, в зрелости, на четвертом десятке, обретал веру. Они еще нуждались в нем, он уже не нуждался в них. Он искал тишины, они – суеты. Он жаждал покоя, они – бури…
Когда-то Ла-Рэнси принадлежало Луи Филиппу. Луи Бонапарт, сделавшись Наполеоном Третьим, велел распродать Рэнси по частям. Бывшим королевским имением владели теперь буржуа и зажиточные крестьяне. Еще широко шумели королевские заповедные леса, но олени перевелись. Еще не обвалился королевский охотничий домик, но в нем уж не пахло ни кожей, ни псиной, ни порохом.
Деревья, травы, цветы, овощи – все здесь было до краев налитое, телистое. Не дева Флора, изваянная Фальконе, а Флора дебелая, много рожавшая, широкая в бедрах, с большой упругой грудью.
Старенький флигелек был полон скрипов и шорохов. Рядом высились вязы. Говорили, что вязам не меньше тысячи лет. Они стояли, как Гаргантюа и Пантагрюэль. В их изобильной листве застряли бы пушечные ядра. Под сенью таких вязов мог бы расположиться цыганский табор, драгунский отряд или молчаливый отшельник. Тысячелетние вязы и старенький флигелек укрыли Тихомирова.
Человек остался со своим «я». Не так, как в тюремной камере, откуда он рвется душой и плотью. И не так, как в скиту, куда он рвется душой, убегая плоти. Остался, чтобы познать свое «я»: подобно астроному – в телескоп; подобно натуралисту – в микроскоп. Познать далекое прошлое. Познать недавнее, изжитое в эмигрантских годах.
Еще колеблясь, еще скользяще, но уже являлись эти мысли-догадки, эти догадки-мысли: о стенающей русской душе, которой суждены вечные поиски и вечные заблуждения, горечь и пессимизм, а может, и новые надежды. Те новые надежды, которые потребуют отречения и покаяния.
Мышлением о мышлении услаждался Аристотель. Тихомирову трудны и грустны были размышления о путях собственного мышления. (Или того, что он, как многие, принимал за собственное.) Лукавый бродил среди тех, кто звал себя землевольцами, народовольцами, нигилистами, анархистами, социалистами. Лукавый заманивал в пустыню. В пустыне возникают миражи. Самые зыбкие из них – социальные… А реальность – вот она, возьми и взгляни: вязы, ближняя каштановая роща, сельские дороги среди полей, цветы. Есть гул шмелей, повседневная смена простых забот, купанье детей, разносчики съестного с большими плетеными корзинами, мирная беседа огородников, опершихся на лопаты.
Саша поправился, но, и прежде слабенький, не был вполне здоров. Тучи рассеялись, это так, но небо еще не блистало. Доктор (вечное ему спасибо, низкий-низкий поклон) предупреждал: возможны осложнения, беды, как и ведьмы, любят водить хороводы. У мальчугана случались боли в затылке. На него туманом находили видения. Иногда он пугался паука, бабочки, сучка, гусеницы. Однако – божья милость! – глухота, слепота обошли, не тронули Сашуру.
Утром Тихомиров работал: журнальные заказы привалили почти одновременно с выздоровлением сына. Потом гулял с Шурой. Они пересекали шоссе и выбирались на поляну.
Поляну окружали каштаны, можжевельник. На волглых низинках круглились мягкие хвощи. И вот еще что хорошо: не росли на этой поляне противные купавки, ничего желтого. Тихомиров не терпел желтых цветов – такая же дурная примета, как и луна слева.
Другим излюбленным местом был пруд, большой и глубокий, в плотных тенях гигантских тополей. Клевом пруд не баловал. Зато чаровал лебединой стаей. Мальчик замирал. И отец тоже.
Поэт тревожился, сомневался. Тихомиров тревожился, но уже не сомневался. Почти не сомневался. Особенно в те минуты, когда видел плавный лебединый ход, когда его рука согревала и нежила ладошку сына, а ухо ловило ропот тополей, плеск воды.
Благодать прикасалась к нему и светом вечерней лампы, и когда, отведя глаза от евангелия, он смотрел в темный сад, слушал, как натекает ночь: звяканье засова, чьи-то шаги за оградой, вдруг зашумевшие и вдруг умолкшие вязы, сверчок и какая-то птица.
Он почти не сомневался, что уже скоро, совсем скоро минет «духовный обморок». Минет. Если… Если он, Тихомиров, признает, что пребывал омертвелым именно в ту, сравнительно недавнюю пору жизни, исполненную, как ему представлялось, чистых идеалов и высоких целей.
А Катина душа воскресла. Он это видел, чувствовал, знал. Для них супружество не было мукой, но в их супружестве было много муки. Безденежье, неприкаянность. Ожидание несчастий, утраты друзей. Тоска по дочкам: девочки жили в Новороссийске, с дедушкой и бабушкой. Сашин менингит. В страшные Шурины недели и месяцы за гранью надежд им случалось ненавидеть друг друга.
Теперь, в богоданном Ла-Рэнси, Катя расторопно домилась. Она завела знакомства на рынке и в лавке, необходимые каждой хозяйке. Подружилась с соседками-буржуазками, ходила к ним в гости. Она стала улыбчивой, приветливой, часто смеялась. Никто бы не признал в Екатерине Сергеевой-Тихомировой бывшего члена Исполнительного комитета «Народной воли», якобинки столь же непреклонной, как и ее землячка, уроженка Орловской губернии, «мать игуменья» Ошанина. Никто бы не признал. А Катя, лихом не поминая прошлое, вовсе не поминала это прошлое.
В интимных отношениях с Левой явилась зрелая, спокойная нежность. Такая же округлая и налитая, как все окрест. Иногда всей плотью, сладостно, но тоже спокойно возникало в ней желание беременности. И гасло, не оставляя ни горечи, ни сожалений.
Ее парижские мечты о России, где она приняла бы под крыло девочек, как-то утихли. Струилась, правда, греза о том, что Лев наконец утвердится, заработок его станет пусть небольшим, но постоянным, а тогда уж она выпишет своих дочурок и будет совсем счастлива.
Заработок и впрямь обещал не иссякнуть. Еще в Париже Лев Александрович свел знакомство с Павловским. Тот представлял во Франции петербургскую газету «Новое время». Когда-то Павловский числился «красным», судился, отбывал северную ссылку, бежал. «Краснота» его поблекла, а после и совсем слиняла. Суворин, издатель «Нового времени» (от одного его имени негодующе сверкали глаза и Лаврова, и Ошаниной, а раньше и Тихомирова), Суворин, сам литератор, знал толк в журналистике и дорожил Павловским.
Несмотря на попреки и укоры эмигрантов, Тихомиров сблизился с Павловским. Лев Александрович обнаружил в «гончей из своры Суворина» гибкий, наблюдательный ум, способность искренне наслаждаться искусством и умение устраивать собственную независимость, не теряя притом, как думалось Тихомирову, личного достоинства.
Вот этот самый Павловский наведывался в Ла-Рэнси. Тихомировы его привечали: он приезжал с приятными новостями. Переговоры Павловского с издателем о сотрудничестве Тихомирова (разумеется, под псевдонимом) велись успешно: социологические этюды из жизни Франции, библиографические обзоры, рецензии и т. п. А в последний раз Павловский показал Льву Александровичу телеграмму издателя: «Готов использовать талант, откуда бы он ни был». И в поощрение таланту – их поощрять надо! – авансом несколько сот рублей.
Кроме Павловского, как и надеялся Тихомиров, в Ла-Рэнси почти никто не заглядывал, если не считать Ландезена. Ландезен был Льву Александровичу и не в тягость, и не в особое удовольствие. Молодой человек не томил ни вечным эмигрантским нытьем о российском безвременье, ни рассуждениями о судьбах русской интеллигенции, ни известиями о наступлении Плеханова и К° на заговорщиков-террористов.