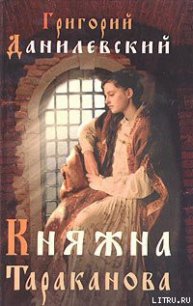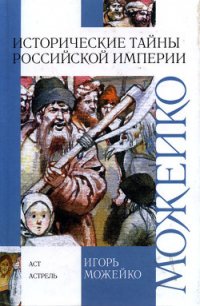Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин" (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
— Думано много, отец Вавило; да как тут ни думаешь, всё выходит клин. Жить просто нечем! Батюшка-покойник, дай Бог ему царствие небесное, нас совсем изобидел. Ему, разумеется, было жить с полгоря. У него было более десяти тысяч душ, да тогда не было и таких требований. Брату Андрею, разумеется, было жить и того лучше. Ему, кроме того, что отец, в обиду нам, оставил, от дяди всё имение перешло; имение большое, богатое, и капиталы, такие капиталы, что, как я ни считаю, всё сосчитать до точности не могу!
В это время к дому подъехала закрытая карета, без гербов и с немым мальчиком вместо лакея на запятках.
— А вот постой! Князь Никита Юрьевич сам, кажется, пожаловать изволил! Поговори с ним, дело лучше увидишь и сам себя вернее усчитаешь.
И точно, в светёлку старообрядческого попа вошёл генерал-фельдмаршал и андреевский кавалер, князь Никита Юрьевич Трубецкой.
Князь Никита Юрьевич вошёл весело, хотя и можно было заметить, что нет-нет, а как-то конвульсивно подёргивается его правое плечо.
— Ну вот, отец Вавило, и мы к тебе в гости! Ведь ты никонианца не выгонишь? Не станешь после него светёлку святить?
И он остановил свой взгляд на незнакомом ему Юрии Васильевиче, как бы встретил его неожиданно и не знает, что это за человек.
— А, батюшка князь, твоей милости всегда рады! Такой никонианец, как ты, сотни православных стоит. Мы вот и так с его сиятельством князем Юрием Васильевичем Зацепиным говорили, что благочестие в вашем доме искони живёт. Ведь, ваше сиятельство, изволите знать князя Юрия Васильевича?
— Нет, не имею чести. Вы изволите быть родственником князю Андрею Васильевичу? Был мне добрый приятель, и какой человек был, какой человек... Его дядюшка, Андрей Дмитриевич, был во флоте вице-адмиралом и в большом почёте, тоже мне приятель был!
— Андрей Васильевич родной брат мне; позволю себе вашему сиятельству представиться! — просюсюкал Юрий Васильевич.
— Большие были мне приятели ваш братец и ваш дядюшка Андрей Дмитриевич. Какие люди были. Таких людей и нет нонче...
— Да-с, брату хорошо было жить. Дядюшка ему оставил...
— Мы поговорим об этом, поговорим! Вот прошу сегодня вечером навестить мою хату в Кремле, — вам укажут, — по-русски чаю напиться. Ну, а что вы?
И Никита Юрьевич сел, приглашая рукой садиться и Юрия Васильевича.
— Что, ваше сиятельство, по нонешнему времени всё худо; всё расход, расход, а доходы всё урезывают, — начал шепелявить Юрий Васильевич, садясь. — И как ещё урезывают-то, Бога не боятся просто; несуразно, совсем несуразно! Вот хоть бы моё дело, по рекрутству. Разумеется, брату думать ни о чём не приходилось. У него больше двадцати тысяч душ было; а мне как досталось всего полторы тысячи, так поневоле пришлось подумать. Не сгинуть же было, как брат Дмитрий, — сперва промотался, а после и совсем сгиб. Я ни промотаться, ни гибнуть не захотел. Подумал: люди и с ничего начинают, да капиталы наживают, отчего же и мне...
— Что ж вы придумали?
— Да что, ваше сиятельство, придумал я, казалось бы, дело хорошее: рекрутов поставлять. Купил я вотчину да подростков всех и сдал в рекруты; народ молодой, здоровый; казне, надеюсь, приятно было таких рекрутов принимать, а квитанции я в продажу пустил. Другому или другой не хочется с сыном, с мужем или женихом расставаться, детей оставлять, — покупают. И все довольны. А вотчина-то мне выходит не только даром, а с барышом пришла. Ну, думаю, дело подходящее, стал торговать другую вотчину. Думаю, оборочусь: молодцов в рекруты, а девок на вывод. Малолетки, пожилые да женщины — все мне в барышах будут; ну и земля, и всё прочее. И ни за что всё придёт, задаром, ещё прибыток дадут! Не тут-то было! Говорят: «Нельзя, дескать, дело не дворянское! Это, дескать, значит, живым человеческим мясом торговать!» Как не дворянское, так чьё же? Ведь у купцов вотчин с крестьянами нет! А что мясо-то живое, так что же? Не мёртвых же продавать? Вот кабы я обманывал казну да вместо хороших рекрутов каких-нибудь калек сдавал или бы квитанции обманные продавал, тогда так! А то... ну скажите, ваше сиятельство, вы сами изволили генерал-прокурором быть, чем тут я нарушил закон? Ведь они мои. Если я купил их, то, стало быть, мои, не правда ли? Мои или не мои, — ведь что-нибудь одно, не правда ли? Если мои, то кто же может мне препятствовать делать с ними что угодно, стало быть, и в рекруты ставить? Если же не мои, то за что же я деньги-то заплатил?
— Так-то оно так, — подумавши, ответил Трубецкой. — Только, кажись бы, по человечеству...
— В том и дело, ваше сиятельство, и я тоже говорю, что по человечеству нельзя заставлять даром деньги платить, расчёты хозяйственные нарушать! — с азартом и ещё сильнее сюсюкая и шепелявя, стал говорить Юрий Васильевич. — Если бы не было закона о покупке, я бы не покупал. А то я купил, а тут говорят, нельзя. Пожалуй, ещё и девок на вывод продавать запретят. Да что же это будет? Разбой, просто разбой! Там, с одной стороны, говорят, поднимаются на помещиков злодейства разные; кто говорит, что донской казак, а кто... Ну да это дело не наше; а тут... Помилуйте... Разумеется, если бы ваше сиятельство...
Трубецкой посмотрел на него грустно; потом опять как-то конвульсивно подёрнул рукой, даже вытянул её вперёд, но промолчал и стал прощаться, повторив своё приглашение пожаловать вечером к нему.
«Капиталы, большие капиталы, говорить нечего, — думал он, — но человек-то, человек... Да человек ли ещё он? — подумал князь, садясь в карету. — Бедная Китти!»
И его левый глаз сильно замигал; всё лицо передёрнуло сперва левую, а потом правую сторону; правую ногу повело. Он даже вскрикнул в карете. Но сейчас же всё прошло, и карета покатила.
«Непременно бы нужно с хорошим доктором поговорить, — думал Трубецкой, сидя в карете, — да с кем? Вот если бы Ерскин Петра Великого был жив, так с ним бы. У Петра и не такие, как у меня, судорожные подёргивания были, и ничего. А из новых, — не слышно что-то, чтобы кто это дело понимал!»
И Трубецкой задумался о прежнем времени. Ему что-то чаще и чаще стало приходить на память оно, это прежнее время; чаще и чаще он начинал вспоминать... Но не любил он этих воспоминаний. Лучше думал о князе Зацепине. И стал он думать о князе Зацепине и опять невольно повторил себе: «Бедная Китти».
Получив известие от Христенека, что так называемая княжна Владимирская решилась ехать в Пизу, Орлов ждал её с нетерпением.
«Она любит жить, хорошо жить, — говорил чесменский герой. — Ладно, мы распорядимся! Покажем, что морокуем кое-что по этой части. Устроим всё как следует, устроим на славу! Пусть не говорит, что русские не умеют распорядиться. Она избалована, ну и мы её побалуем! Пусть знает, что граф Орлов-Чесменский о ней заботится, что он ей верит... Верит, стало быть, считает обязанным ничего для неё не жалеть!»
И он нанял для неё один из великолепнейших мраморных дворцов Пизы, с садом, идущим по склону горы и видом на долину, покрытую виноградниками, прорезываемую рекой Арно и центральным каналом, соединяющим комфортабельную, роскошную Пизу с торговым портом Ливорно.
Нанятый для Али-Эметэ дворец он обставил всей русской роскошью екатерининского времени. Он знал, что с ней приедут её шталмейстер и камергер, также её любимая камер-юнгфера; знал, что затем из Рима, из Рагузы, из Венеции явится весь её штат. Тем не менее из своих адъютантов он особо назначил гоф-интенданта двора всероссийской великой княжны и под его главенством метрдотеля, тафельдекеров и кофешенков, с соответственным количеством необходимой прислуги, по образцу штата петербургского большого двора. Конюшня тоже была наполнена лучшим и лошадьми с конюшни Орлова. Экипажи, выезд, всё было снаряжено и устроено превосходно. Два камер-фурьера были назначены смотреть за убранством комнат и служить княжне; при них находилось достаточное число камер-лакеев, официантов, негров, для комнат и для выезда. Выезд, по её приказанию, мог сопровождаться конвоем из четырёх казаков, четырёх фанариотов и двух черногорцев, в их национальных живописных костюмах. Грумы, кучера, выездные лакеи — всё это было устроено царски хорошо, буквально великолепно, как для истинной русской великой княжны, имеющей все права на полное к ней внимание. При этом Орлов везде старался примениться ко вкусу Али-Эметэ, насколько он мог судить о нём по слухам и рассказам, которые Орлов собирал о ней повсюду.