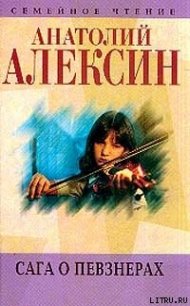Ветка Лауры - Осетров Евгений Иванович (бесплатная библиотека электронных книг txt) 📗
Отдавшись литературной деятельности, Станюкович остро почувствовал, что ему не хватает знания народной жизни.
И вот бывший морской офицер становится народным учителем и отправляется в село Чаадаево, в Муромский уезд, в самую глубину России. Позднее Станюкович писал: «Адмиральский сын, только что оставивший морскую службу, сулившую ему блестящую карьеру, несмотря на совет великого князя… оставаться моряком, хлопочет… о назначении его сельским учителем.
Тогдашний министр Зеленый, хорошо знакомый с отцом, пришел… в недоумение, когда я обратился к нему с такой просьбой.
…На месте изумления было еще больше. Не меньшую сенсацию произвело мое появление и на окрестных помещиков. Ряд любопытных встреч и сцен. Комические доносы заштатного священника, отношение крестьян, местного священника, помещиков, уездных властей».
Итак, в далекую дореволюционную пору в Чаадаево приехал и скромно учительствовал Константин Михайлович Станюкович. В одном из журналов писатель опубликовал очерки о своей жизни в Чаадаеве под названием: «Из воспоминаний сельского учителя шестидесятых годов».
Грустную картину рисовал чаадаевский учитель. Вот что писал Станюкович со слов крестьян: «Наше село — очень бедное село. Земли мало. Заработки на стороне плохие. Ходим в город, на кожзаводы, по 15 верст в день, да зато там работа больно „люта“, хлеб дорог. Словом, мне приходилось видеть самую крайнюю бедность и безрадостное существование…»
А вот как описывал учитель свое первое занятие в Чаадаеве: «Когда я пришел в училище (плохая комната со сломанными скамейками и столами), мальчики встали. Их было человек двенадцать. Они глядели на меня испуганными глазами. На шкафе лежали розги. Я их взял и выкинул за дверь. Кто-то фыркнул. Однако мое действие произвело некоторый эффект.
— Как тебя звать? — спросил я одного.
— Матвей Ко-ло-сов, — задрожал мальчик.
— Что, тебя били прежде?
— Хлы-ста-ми.
Я посмотрел, когда ушли дети, училищную библиотеку. Ни одной сколько-нибудь сносной книги».
Сельскому учителю чуть позже дети стали из жалости приносить — кто пару яиц, кто пару луковиц, а иногда кринку молока.
— Таким простым манером, — рассказывает Станюкович, — мне оказывали добрые ребятки внимание. Но приходилось испытывать немало и огорчений. «Только одно было плохо, — говорится в записках, — много хлопот было с отцами. Детей, желающих ходить в школу, было много, но не всегда бывало их пускали».
Когда учитель обратился к одному из крестьян с вопросом, почему он не пускает своего сына в школу, последовал ответ:
— Глупенек еще, родимый. Мал… Куда ему. Да и не во гнев тебе будет сказано, — батюшка баил, что ты по псалтырю не вучишь… Так какое же это ученье? И опять сказывают — ты без розги вучишь! А нешто без розги вучат?
Пореформенная деревня предстала перед Станюковичем во всей потрясающей нищете и противоречивости. Писателю приходилось постоянно наблюдать бытовые картины, ярко свидетельствующие о скудости тогдашней деревенской жизни.
«Спит большое село, — пишет Станюкович, — спит оно крепко, и даже во сне ему не снится ни более удобное жилье, ни более здоровая пища, ни тем более здоровые ребятишки».
Так было.
Сейчас дома в Чаадаеве — высокие, ладные, украшенные деревянной резьбой. В двух самых больших зданиях разместилась средняя школа. В ней занимаются около шестисот сорока учащихся, составляющих двадцать два класса. Коллектив учителей — тридцать человек.
Среди них есть люди с университетским образованием, опытные мастера педагогического дела.
Старая сельская учительница, прожившая тридцать лет в Чаадаеве, воочию видит, как преобразилось село, а главное — как изменились люди. С большим удовлетворением перечисляет учительница новшества, появившиеся в селе.
— Есть у нас электричество, радио, колхозный радиоузел, киностационар, клуб, две библиотеки — сельская и школьная. Есть у нас замечательный отряд сельской интеллигенции. А ведь когда я сюда приехала на работу, нас всего две учительницы было.
Радостную картину являет собой школьный сад. Дети пришли сюда, чтобы посадить деревья и кустарники. В местной школе установилась добрая традиция украшать классные комнаты в дни экзаменов цветами, выращенными в своем саду.
Если бы Станюкович мог видеть этих детей-крепышей, весело занимающихся работой, сажающих деревья!
Культурный центр Чаадаева — сельский клуб. Сегодня в клубе собралось много народу. Довольный расхаживает по рядам старик-пасечник.
Гаснет свет в зрительном зале и сноп электрического света падает на экран. Демонстрируется кинофильм по мотивам Станюковича «В дальнем плавании». Плещут волны далекого моря, перед восхищенными зрителями проходят эпизоды героической жизни моряков, находящихся далеко от родной земли. С волнением смотрят картину потомки тех, кого учил Станюкович.
Над старым муромским селом сгущаются сумерки. Тепло и приветливо светятся окна домов…

ВЕТКА ЛАУРЫ

Бесконечные зимние вечера Александр Иванович Одоевский коротал за старым клавесином. Откуда взялся в сибирской глуши этот изрядно потрепанный музыкальный инструмент, содеянный еще в прошлом веке в Антверпене, никто в Ишиме не помнил. Александру Ивановичу удалось купить эту бесполезную для местных жителей игрушку за бесценок. Когда старый камердинер Иван Курицын — владимирский крестьянин, добровольно последовавший за опальным князем в Сибирь, — зажигал свечи и вновь пристроенная горница о четырех окнах со стороны казалась похожей на фонарь.
Александр Иванович садился за клавесин. По всему деревянному дому гулко неслись звуки музыкальных пьес, слышанных еще в детстве от ныне покойной матери. Он исполнял «Тетушку Аврору» Буальзе, «Лодочку» Крейцера, сонаты Штейбельта, в особенности полюбилось в последнее время рондо «Гроза».
Как смеялся бы петербургский кузен Вольдемар, если бы слышал эти детские упражнения! А, впрочем, кузен ныне снискал себе имя знатока философии и музыкального критика. Его принимают в лучших столичных домах и, конечно, там Владимир Федорович Одоевский произносит свои длинно-худощавые словесы. Бог с ним! Александр Иванович в душе с юных лет недолюбливал не в меру рассудительного двоюродного брата.
Говорят, что нет большей горести, как в дни несчастья вспомнить о счастливом прошлом. Но в Ишиме худшее было в одиночестве. Никогда Александр Иванович не чувствовал себя таким одиноким, как здесь. Лишь воспоминания поддерживали его моральное равновесие.
Лежа на кушетке под медвежьей полостью, Одоевский взывал к памяти, и картины милого детства возникали перед глазами. Кудрявые липы отражались в безмятежно ясных прудах усадьбы, что под старым городом Юрьев-Польским. Запах цветущих лип запомнился маленькому Саше, которого мать часто привозила из сырого и простудного Петербурга на деревенский воздух. Саша бродил по живописным окрестностям с французом-гувернером, читавшим вслух барчуку стихи, слышанные им еще в Клубе якобинцев в Париже. Однажды впечатлительный мальчик сказал: «Мосье Жан-Мари, я сочинил стихи в вашем вкусе. Я назвал их „Молитва русского крестьянина“». Когда мальчик на чистейшем парижском диалекте прочел свои стихи, старый гувернер прослезился: «Это не молитва, это плач русского мужика над своей горькой долюшкой. Да, ты прав, мой юный республиканец, цари не слышат мольбы простых людей Ведь у трона всегда так шумно!».
Вспоминался и далекий Петербург, пламенные речь Кондратия Рылеева, комический приступ гнева у кузена Вольдемара, когда в ответ на свои «великолепные стихи» он получил от Саши двухстрочный экспромт;