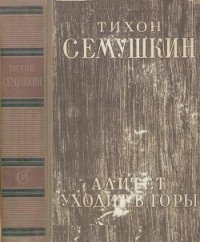Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
«Мерзавец! — чуть не вырвалось у Петра. — Кто дал тебе право чинить допрос? И почему молчите вы, пан Станьчик, почему не защищаете своего ученика?..»
— Но ведь пан Кручинский прекрасно знает, — с трудом сохраняя спокойный тон, сказал Петро, — на то была воля отца. Вы не пожелали или не смогли поддержать его в беде, вы, пан отец, остались равнодушны к его беде, как мог он доверить вам свою душу, назвать своим духовным пастырем…
Лицо Кручинского исказила полная злобной иронии усмешка.
— И потому русский граф, порвавший со святой верой Христовой, стал достойным примером подражания для вашего отца? Так, уважаемый пан Юркович?
Петро потерял выдержку:
— Это ложь! Мой отец не читал Толстого!
Кручинский, вышколенный святыми отцами, был куда сдержанней, он не повысил голоса, наоборот, заставил себя говорить мягко, по-отцовски, хотя не намного был старше желторотого учителя:
— Зато вы, пан Юркович, читали. Сами читали и других посвящали. Не правда ли, милостивый государь?
Петро крепко стиснул ручки кресла и с откровенной враждебностью уставился на священника. Всей душой презирал он этого иезуита. Но сказать ему в глаза не мог. Он великолепно знал, какие бы последствия это повлекло за собой. За спиной Кручинского — уездный староста, школьная инспекция, даже жандармерия…
— Я бы вас, пан Кручинский, об одном попросил: не вмешиваться в мои дела.
— Не вмешиваться? Я вас, сударь Юркович, что-то не понимаю. Ведь именно я отвечаю перед богом, — показал хозяин дома на распятие над столом, — перед богом и престолом императора за человеческие души. Я их духовный пастырь.
Ударив ладонями по ручкам кресла, Петро ответил:
— А я, смею вас уверить, отвечаю за то, за что вы, пан отец, не отвечаете: за воспитание молодого поколения.
Спор разгорался.
— Учителя, пан Юркович, получают содержание из императорской кассы. Они слуги не московского, а австрийского императора. Нельзя быть слугою двух господ. А тем паче двух императоров, милостивый государь.
— Я служу народу, — стоял на своем Петро. — И вы не полномочны судить о делах школы. Хватит вам, пан отче, церкви.
— Прошу извинения, пан Юркович, — вмешался учитель Станьчик. — Я… я не разделяю ваших мыслей. — Дрожащими костлявыми руками он зашарил по карманам, достал носовой платок и, вытирая покрывшийся испариной лоб, сказал, запинаясь от волнения: — Ре-религия, как нас, пан Петро, учили в семинарии, играет определенную роль в жизни народа. И даже позитивную, осмелюсь вас заверить…
Лицо у Петра пошло красными пятнами, он широко раскрыл глаза. Еще совсем недавно слово Станьчика было для него самым авторитетным. А сейчас… уму непостижимо, куда он клонит?..
— Мы, — продолжал Станьчик, — мы, милостивый государь, должны быть готовы в интересах нации кое в чем и. поступиться друг перед другом, пойти, если в том появится надобность, на компромисс…
— Именно в интересах возрождения нации, — оживленно подхватил Кручинский, — мы и обязаны объединять свои усилия. Во имя этих интересов да забудется все, что было между нами. Один у нас бог, — священник еще раз показал на резное распятие, — и общий у нас долг перед нашим темным мужиком. Вы называете его лемком, я называю украинцем, да ведь мужик оттого не станет другим. Вы согласны со мной, пан Юркович?
— Нет, — ответил Петро и окинул презрительным взглядом долговязую фигуру Станьчика, прямо-таки съежившегося от этого категорического «нет». — Иуда некогда продал Христа за тридцать сребреников. Любопытно знать, пан Станьчик, за сколько вы продали свои убеждения? — Чтобы не сказать больше, он кивнул головой хозяину и быстрым шагом вышел из кабинета.
Петро попросил у Василька лист бумаги, сел за стол и наскоро набросал:
«Многоуважаемая панна Стефания!
Прошу извинить, что вынужден быть до конца откровенным. Сегодня я поссорился с Вашим отцом. Мне очень неприятно сообщить Вам об этом, но что поделаешь, не я в том повинен. Ваш отец консолидировался с нашим общим врагом — мазепинцем Кручинским. Уверен, что и Ваше, панна, сердце вскипит от гнева, когда Вы узнаете, что народный учитель Станьчик согласился перекрестить читальню имени Качковского на эту продажную швабскую «Просвиту». Вследствие этого я больше не могу бывать у Вас, панна Стефания.
Сегодня я уезжаю в горы, в свою Синяву, где нет таких коварных иезуитов, как ольховецкий поп. Окажите милость, очень прошу Вас, приходите в пять часов вечера на железнодорожный вокзал, мне так много Вам надо сказать.
Смею надеяться, что мы еще увидимся сегодня.
Ваш П. Юркович».
Петро сложил лист вчетверо, сверху написал: «Панне Стефании Станьчик» — и, подозвав Василя, попросил его пойти на дорогу и там дождаться возвращения Станьчиковых дочерей.
— Минутку подождешь ответа, — объяснил Петро, — пока панна Стефания прочитает и что-то там передаст мне. Хорошо?
— Ладно, — согласился Василь. — Вот только оденусь.
Он быстро зашнуровал новые ботинки с подковками (о, они еще долго будут новыми, потому что он обувает их только по праздникам!), потом надел недавно купленную куртку с черным меховым воротником (отец писал: один доллар из той суммы — на одежду сыну, пусть не ходит хуже других), на голову надвинул отцову смушковую шапку.
— Если б еще ваши перчатки, дядя, — Василь стрельнул на них глазами, они лежали на лавке — черные, кожаные, с белым мехом внутри, мягкие и теплые, недосягаемая мальчишечья мечта. — Я, дядя, не запачкал бы их, посмотрите, какие у меня руки, ей-богу, чистые, я только подал бы в них ваше письмо. Чтобы панночка, дядя, не посчитала нас за бедняков.
Как ни тяжело было у Петра на сердце, как ни удручали его невеселые мысли после разговора со священником, все же просьба Василя развлекла его. Он поднял глаза на мальчугана, поймал его лукавый взгляд и, вероятно представив себе, с каким достоинством передаст мужицкий сын его письмо панночке, проникся его настроением, схватил с лавки перчатки и сказал, посмеиваясь:
— Бери! Пусть знают наших!
Этого дня никогда не забыть. Пройдут годы, канут безвозвратно и детство, и юность, на полную силу расправится грудь, затем жизнь покатится под уклон, все меньше будет впереди дней, которые осталось дожить, а черные, кожаные, подбитые теплым белым мехом перчатки никогда не исчезнут из моей памяти.
У дяди Петра был вкус, он умел одеваться. Такого пальто и такой шапки не было ни у кого в Ольховцах, а таких элегантных перчаток не носили, наверно, и в Саноке, так как они были куплены не у нас, чуть ли не в Норвегии. Померить дядины перчатки было для нас, детей, истинным удовольствием.
Схватив перчатки, я выбежал на улицу вприскочку, выбрыкивая, что блажной жеребенок-сосунок, недавно родившийся у нашей гнедой, перемахнул через перелаз, пробежал мимо окна Сухани, дал о себе знать Гнездуру и Владеку и только после этого выскочил на тракт, по которому с минуты на минуту должны были пройти из города Станьчиковы панночки.
Первый прибежал ко мне Суханя, за ним Гнездур. Чтобы сделать им приятное, я надел каждому по перчатке, мягкий мех еще хранил мое тепло.
— Ну как? Греют? Это вам не грубая шерсть. Профессорские, сударь, — засмеялся я, передразнивая нашего шепелявого войта, который при всяком удобном случае старался вставить для солидности этого «сударя».
Товарищи точно так же, как я, были в восторге от мягкой кожи, от меха и от блестящих кнопок с выбитыми на них латинскими буквами.
— А для работы они не пригодны, — все же решился заметить сын столяра Гнездур. — Взять в них топор да размахнуться разок-другой — и фертиг, готово.
Я рассмеялся:
— Разве паны машут топорами? Они для прогулки, не для работы. Либо ясной панночке ручку подать.
И я скорчил такую гримасу, что товарищи покатились со смеху. Мы стали вспоминать тех панычей, которых видели летом, когда они со своими высушенными панночками приезжали в воскресенье в наш лес на велосипедах, в экипажах и даже на мотоциклах и автомобилях, которые в ту пору только-только появились у саноцких панов. Мы, крестьянские сыновья, ненавидели их всех — и тех, что шли пешком, и тех, что ехали, — и старались чем-нибудь, да донять их. Почему? Да потому, что саноцких панов лесник не трогал, не мешал им проводить время в горах, а с нас готов был шкуру спустить за каждый прутик, поднятый в панском лесу, за каждую травинку, которую съест крестьянская корова. По той же причине панские дети в нашем представлении были одни кособокие, другие пузатые да мордастые, иные, как жабы, лупоглазые, и все смешные в своих пестрых модных нарядах. Женские шляпки напоминали нам аистиные гнезда, а длинные шлейфы юбок, которые поднимали серое облачко пыли, — павлиньи хвосты.