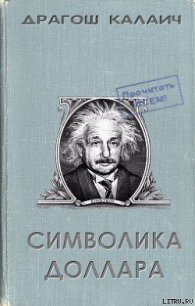Переселение. Том 1 - Црнянский Милош (книги бесплатно .TXT, .FB2) 📗
Мария Терезия. В первой букве ее имени заключена таинственная сила: «М» — обозначает тысячу. «М» — потому что Мать. «А» — потому что Ангельская. «Р» — потому что Рассадница. «И» — потому что Избранная. «Я» — потому что Ясная.
И Терезия: «Т» — потому что Теодицийная. «Е» — потому что Евангельская. «Р» — потому что вторично будет Рассадницей. «Е» — потому что Единственная. «З» — потому что Зенитная. «И» — потому что Иерусалимская. «Я» — потому что Ясная.
Исакович, почувствовавший после ужина привычную резь в желудке, страшно перепугался велеречия епископа. Опасаясь, что ему не удастся отвертеться и его тут же, в Печуе, окатоличат, он воззвал в лютой печали к своему патрону святому Мрату.
И святой Мрат помог ему среди моря разливанного вина, сверкающих бокалов и горящих свечей, он надоумил его поступить так, как поступал его брат Аранджел при заключении торговых сделок, спаивая валахов, турок или венгров. Вспомнив об этом, честнейший Исакович решил последовать примеру брата и напиться самому. Рассудив, что уж если его окрестят силой, то хотя бы не трезвого.
И приналег на вино с таким усердием, что епископ онемел от удивления.
Все более багровея, сохраняя лишь проблески сознания, Исакович доказал, что не нуждается в длительной поддержке святого Мрата.
— Здравствуй, — сказал он, — мое благословенное православие, многие лета матери моей церкви, и пусть вовеки живет она в моих потомках. Благословенна будь и Россия наша. Бога творца молю дать мне узреть путь мой в Россию. Россия! «Р» — потому что Рождество. «О» — потому что Оживотворение. «С» — потому что Славянская. «И» — потому что Иисусова. «Я» — потому что…
Майор так и не закончил: хоть он и насосался, как губка, он понял, что говорит не то, что следует, и струсил. Испугавшись, он совсем обмяк и попытался замазать свои слова, прибавив: все, мол, тлен, прах, суета сует… празднословие… умираешь все равно как скотина. При этом он попробовал встать, чтобы уйти.
— Ни души нет, — бормотал он, — ни бога… тщета одна, а не жизнь… все тлен… смерть… празднословие.
Тут епископ отвел от него холодный взгляд и, поежившись, поглядел в темноту. Полночь давно уже миновала.
— А если посмотреть в ночь? — спросил он. — Стать вот у дверей, на пороге тьмы, оглядеть залитые лунным светом поля? Вот эти горы на горизонте… город, крыши… облака… созвездия… небо, полное света? Если помолчать, глядя на все это? Неужто и тогда все покажется бренным и безумным… бессмысленным… и возможно ли, что все это лишь пустая бездна?
Честнейший Исакович принялся будить комиссара и, уже совершенно пьяный, уставился в усыпанное звездами небо, поглядел на залитые лунным светом поля… далекие леса… горы… облака… и прошептал прямо в лицо епископа:
— Туда аз пойду… — И заплакал.
III
День и ночь текла широкая, ленивая река, а в ней — ее тень
Весной тысяча семьсот сорок четвертого года дом Аранджела Исаковича — большое строение у самой воды на окраине сребробогатого Земуна — был заново оштукатурен. Окрашенный желтой и голубой краской, он возвышался над окрестными соломенными кровлями и был хорошо виден сквозь чащу верб, на фоне пожарищ и шанцев, где поселились аисты; все рыбаки и барочники его хорошо знали.
Стоял он, зарывшись в крутой, взрыхленный весенними водами, первыми травами и кротами берег Дуная, в окружении множества деревянных расписных, с выгнутыми шеями, ладей-лебедей. Глинобитный, с крышей, сделанной из палубы баржи для перевозки зерна, он господствовал над всеми окрестными конюшнями и хлевами и походил на какой-то допотопный корабль. Оттуда неслось хриплое мычание волов и коров, блеянье козлов и баранов, овец и ягнят, слышался конский топот и рев верблюдов.
За высокими заборами усадьбы, где с утра до ночи, увязая в глубокой грязи, грузили суда, Аранджел Исакович держал оборыши скотины, пригнанной с лиловых долин Шара и пастбищ на берегах Быстрицы.
Направо поблескивали широкие воды и залитые острова, над которыми белели в голубом небе минареты и крепостные стены Белграда, налево — разлившаяся река переходила в бескрайнее море грязи, сливавшееся с темной синью горизонта.
Окруженный глубокими канавами, сараями, загонами, скирдами сена, запах которого на закате пропитывал не только сверкающий воздух, но и проникал сквозь накаленные и плотные глинобитные стены, этот дом среди непрестанной суеты, несмолкаемых криков пастухов и лодочников, рева скотины и понукания погонщиков все-таки оставался тихим. Закрытый со всех сторон, он имел одно-единственное низенькое крыльцо, где постоянно копошились голуби и сушились на стропилах кожи. А по вечерам, когда к нему подходили барки и вокруг зажигалось множество костров, он и в самом деле напоминал огромный, застрявший в болоте корабль.
Вот сюда-то и отправил Вук Исакович жену и дочек. Прибыли они под плач и причитания толпы женщин и старых слуг в тяжелом рыдване, заваленном расшитыми зубунами, коврами, мехами, серебром, были там и серебряные пуговицы и даже иглы для шитья жемчугом.
Аранджел Исакович относился к старшему брату как к младшему. Сухой, как щепка, он снисходительно поглядывал на толстого, как бочка, брата, благосклонно уступал ему место поудобней, а разговаривая, улыбался и смотрел не в глаза, а куда-то повыше плеча и никогда не отвечал на вопрос сразу.
Еще с тех времен, когда брат служил в Белграде у принца Александра Вюртембергского, Аранджел привык платить его долги, вызволять после драк из тюрьмы и лечить от ран и болезней после войны. Сопровождая отца, который ходил с войсками до Стамбула и Вены, он торговал зерном, скотиной, табаком, а потом все больше серебром, давал взаймы деньги всем и каждому и уже спустя несколько лет, преодолевая по вечерам дрему, тщетно старался подсчитать, кто и сколько ему должен. Брат был для него последней заботой. Аранджел вспоминал о нем где-нибудь в дороге лишь как о случайном должнике в военной треуголке, затесавшемся по недоразумению среди шляп и фесок горожан, с которыми он вел дела в Валахии или Турции.
Он пытался отвратить Вука от военной службы, обучить его торговле, но того очень скоро вновь потянуло к лошадям и сабле. После смерти отца братья довольно долго жили вместе, но Вук стал сущим наказанием, растолстел — бочка бочкой, превратился в пьяницу, развратника и страшного скандалиста.
Тогда Аранджел женил брата, умолив предварительно все комендатуры до самой Вены и подкупив весь чиновный Осек, откуда его пришлось с большим трудом вызволять, чтобы повезти на заручины. Невесту ему он нашел случайно, в Триесте, куда приехал по делам, в доме неких Христодуло, которые задолжали ему восемь тысяч серебром. Они быстро договорились. Вуку девушка понравилась, она была молодая, высокая, сильная и упорно молчала, глядя на него своими большими синими глазами.
Венчал их Аранджел по дороге, в Броде, торопясь по делам, в доме своего приятеля грека. Потом отправил за свой счет прокатиться вверх и вниз по Дунаю, как отправлял гурты скота. И только услыхав, что невестка на сносях, гордясь за Вуковичей-Исаковичей, по примеру старших, поехал проведать молодоженов, а заодно немного передохнуть от бесконечных путешествий, торговли и всяких, уже ставших привычными подлостей. И вот тогда-то, увидев беременную Дафину, Аранджел понял, кого отдал брату.
Стройная и сильная, напоминавшая ангела на иконе, длинноногая и полногрудая, она проплыла мимо него, покачивая бедрами, словно хотела показать, что ее налитое, твердое, как камень, тело все играет и колышется. Аранджелу показалось, что ничего подобного он никогда еще не видал.
Погостив у брата всего несколько дней, Аранджел бежал из его дома сломя голову, как дьявол от креста. И потом присылал только подарки — серебро, шелка, кораллы — а если и приходилось ему приезжать, то делал он это с большой неохотой и каждый раз покидал дом брата совершенно разбитый. Он высох прежде времени, пожелтел, у него разболелись суставы. Он предпочитал водные торговые пути и плавал на своих судах, молчаливый и задумчивый. Через несколько лет плечи его опустились, а пальцы стали дрожать. Дафина снилась ему почти каждую ночь. Он видел ее в каждом темном углу. Ему чудилось, будто его окутывают ее легкие, как шелк, волосы с густым ореховым запахом. Они касались его не раз, когда она подходила к руке. И он тоже изредка касался ее головы, а потом быстро вонзал свои ногти в табак, который сушился на солнце или у очага.