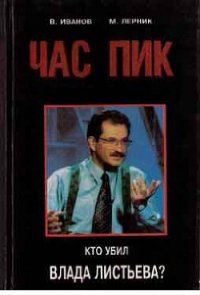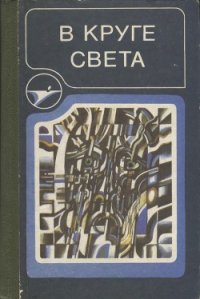Пархоменко (Роман) - Иванов Всеволод (список книг .TXT) 📗
— Впе-е-ред, за-а Ленина-а!.. — неслось отовсюду.
Он привстал на стременах и оглядел поле боя.
Польская пехота, увидав, что кавалеристы генерала Корницкого бегут, повернула обратно и кинулась за реку Березанку. Пехоту преследовали конники Городовикова. Дивизия Пархоменко, добив остатки кавалерии Корницкого, присоединилась к Городовикову. К вечеру вся линия реки от деревни Березна до деревни Токаревка была в руках 14-й и 4-й дивизий. Однако разгромленные остатки наступавших белопольских войск спасли себя, уйдя за бетонированные, обтянутые колючей проволокой укрепления, перед которыми дивизии остановились. Враг не бросил укреплений, а прочно сидел за ними.
И тогда Пархоменко выстроил 2-ю бригаду.
Бойцы стояли на лугу, между кочек. Высокая болотная трава доходила им почти до плеч.
Пархоменко, сдвинув фуражку на затылок и обнажив влажный лоб, густым, нисколько не уставшим голосом громко сказал:
— Что же это, товарищи из второй бригады? Что, у вас штаны такие хорошие, что понадобилось их сзаду показывать панам? Или домой торопитесь? Думаете, поцелуи вас ждут? Дворовый пес, и тот вас не поцелует, не говоря уже о ваших детях.
Молоденький, даже и теперь, после перенесенных усталостей и тревог, румяный нежный парень плакал. Слезы струились у него по щекам, попадая в рот, который этот простой и наивный деревенский парень, видимо, не мог закрыть от стыда и горя.
Пархоменко провел взглядом по рядам. У многих он увидал такие же, как у этого парня, страдающие и огорченные лица.
Пархоменко продолжал:
— Это — верно. Надо стыдиться трусости. Думать, что дело революции, которое мы с вами выполняем, сделает за нас кто-то другой, посмелее, — глупо. Глупо и постыдно! Партия и правительство послали нас спасать родину. Народ нас послал! Так что ж, думаете, народ нам простит трусость? Забудутся голод, холод, нужда, болезни, а вот трусость наша никогда не забудется, потому что только благодаря ей могут овладеть нами паны и буржуи! И вот почему я понимаю ваши слезы…
Конники переглянулись. Пархоменко продолжал:
— Горько и мне до слез, и не столько оттого, что вы струсили… трусость ваша была временная, и вы в битве избавились от нее… горько оттого, что мы не выполнили приказа…
Он помолчал, как бы вслушиваясь в то, проникают ли в сердца конников его слова, а затем продолжал:
— …приказа партии не выполнили!
Слова звучали грозно и громко, во всю ширь поля. Бригада, не шелохнувшись, слушала.
Солнце стояло уже высоко. Своими прямыми лучами оно освещало трупы людей и коней, в различных позах лежавших среди кустарников и кочек. Среди трупов ходили санитары и врачи в окровавленных халатах. Время от времени они останавливались и прислушивались к словам Пархоменко:
— С кем мы бьемся, конноармейцы? С польскими рабочими и крестьянами? Не с ними! Трудовому польскому народу не нужна наша Правобережная Украина и наша Белоруссия. Буржуазии она нужна! Зачем? Зачем нужна буржуазии наша красивая Украина, хорошая Белоруссия, дорогая наша Россия? А чтоб украсить их. Чем? Виселицами, конноармейцы! Виселицами, на которых будут висеть ваши братья, сестры, отцы, дети, все, кто борется с международным капитализмом за мир и за мирный труд! Смотрите туда, на эти бетонные укрепления, бойцы! Видите, мелькают там столбы и колышутся веревки? Это — виселицы…
Он наклонился, вытянув корпус вперед. Конь его нетерпеливо перебирал тонкими и мускулистыми ногами. Глядя в бледное, разгневанное лицо красноармейца, который недавно плакал, Пархоменко крикнул:
— И когда ты рубишь, боец, голову пану, ты рубишь всеобщую виселицу! Выполняя приказ о разгроме панов, мы выполняем мировую задачу. Поэтому все приказы высшего командования мы должны выполнять беспрекословно и полностью. А мы их выполняем частично. Да, мы разгромили дивизию пана Корницкого, но народ, партия приказали нам свершить прорыв и именно нашей дивизии открыть этот прорыв. Мы не свершили этого прорыва!
Вороной конь встал на дыбы. Пархоменко крикнул так сильно, что, казалось, и белопольские войска за полем, в своих блиндированных и бетонированных укреплениях, услышали его:
— Но не плакать нужно, а — биться! Завтра каждому биться в десять раз лучше, чем сегодня! Помните это, как я это помню.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Пархоменко положил на седло голову и, вытянув тело на бурке, лежал у самого окна. За редкими смятыми кустами сирени горел костер, разложенный не столько для тепла, сколько для веселья. Коновод-татарин прохаживал вороного коня начдива. Время от времени лоснящиеся бока коня попадали на свет костра, и тогда видно было узкое лицо коновода и его неизменную улыбку, открывающую, казалось, множество блестящих белых зубов.
— …А вот у нас тоже было: на реке Маныч, хутор Весенний, — слышалось от костра, — шестая дивизия гонит белых, а мы думаем — это деникинцы наступают…
— И бежать?
— Мы? Угадал. Бежать! Верст десять так бежали, а вечером Буденный созывает нас и берет в оборот: «Вы, сукины дети, если не хотите защищать Советскую власть и пролетарскую диктатуру, хоть бы шкурой своей дорожили. Сорвемся здесь, не разобьем Деникина, будем катиться аж до самой Москвы, прямо по шоссе, по камням, по ухабам, да не на коне, а на своей спине!»
— Ну, а вы? — спросил тот же тоненький голосок, спрашивавший ординарца раньше.
— Мы? Сознание тогда не было такое полное, как сейчас. Но все ж нам совестно. Начали драться. Теперь народ сознательней…
— Какое сравненье! — послышался голос Ламычева. Он шумно спрыгнул с коня, взял уголек, закурил. — Никакого сравненья! Прорыва не сделали, но и не отступили. Раз. А второе — каких коней нам, братцы, из резерва привели! Народ нажертвовал. С такими конями пинка пану дадим… А что, начдив здесь?
— Спит, кажись.
— Чего ж вы орете, черти, во все горло? — сказал Ламычев, на цыпочках направляясь в избу.
Он вошел, стараясь без скрипа закрыть за собой дверь, поискал по старой привычке икону, перекрестился в пустой угол и тогда только посмотрел на Пархоменко. Тот лежал, закрыв глаза, в пальцах у него торчала погасшая папироска. На краю стола, возле разорванной пополам пачки светлой пахучей махорки и клочков газетной бумаги, сидел Колоколов, положив на колени трехверстку. Поднимая к ней свечу, он вносил на карту какие-то отметки, иногда заглядывая в свою записную книжку.
Так как в комнате, кроме скамьи, на которой дремал Пархоменко, никаких сидений не было, Ламычев сел на стол, рядом с Колоколовым, и хриплым шепотом спросил начштаба:
— Давно спит?
— Через полчаса вставать. У командарма спешное совещание…
— А, раз совещание, надо подкрепиться. Александр Яковлевич! — сказал Ламычев так громко, что начштаба схватил его за руку. — Вставай-ка, дело есть.
Пархоменко раскрыл глаза.
— Да я и не сплю. Про семейных своих думал. Писем давно от них нету.
— Письмо есть, — сказал Ламычев, кладя измятый коричневый конверт на бурку, — читай. И вторая редкость тоже имеется.
Он достал из кармана шаровар полбутылки водки, стакан, завернутый в цветной платок сомнительной чистоты, и кусок темной колбасы. Налив стакан до краев и с сожалением поглядев на жалкие остатки в бутылке, он протянул стакан Пархоменко.
Пархоменко, читая письмо, не глядя взял стакан, пальцем, тоже не глядя, отметил на нем треть, выпил и вернул Ламычеву. Тот указал на стакан Колоколову. Колоколов тоже отмерил пальцем треть и выпил с мучительным выражением лица. Ламычев допил остальное. Так как колбасу никто не рискнул есть, он положил ее в мокрый стакан, завернул все в платок и сунул провизию свою опять в карман.
— Что пишут?
— Благополучно, — сказал Пархоменко. — Теперь я сосну.
Он лег навзничь, плотно закрыл рот и сразу захрапел. Колоколов взглянул на часы и сделал в записной книжке отметку: ему приказано было разбудить начдива через двадцать пять минут. Ламычев, бросив шинель на пол, тоже прилег отдохнуть. Свеча, потрескивая и распространяя запах плохого сала, горела тускло. Но ее неяркий свет нисколько не мешал работе Колоколова, наоборот, помогал: хотелось сделать больше, лучше, быстрей. Пархоменко прав, твердя постоянно, что в эти великие дни надо и работать и сражаться с великим напором.