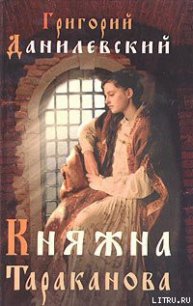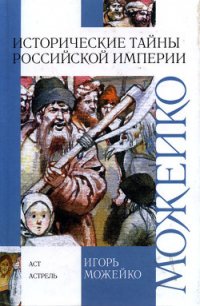Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин" (читать полную версию книги .TXT, .FB2) 📗
Сказав эти слова, кардинал позвонил и приказал кого-то позвать. Явилась тёмная личность неизвестного племени и звания и взглянула как-то хитро, как-то опасливо на кардинала. Но тот разрешил его сомнения, приказав вывести княжну из сада и объявляя за то своё прощение в чём-то и за что-то. Это была одна из пойманных «ворон ватиканских садов», слетающихся туда со всех концов света, во время конклава.
И «ворона» вывела княжну из капеллы.
Разбитая, уничтоженная, униженная, Али-Эметэ шла за ним безмолвно, как вдруг почувствовала, что «ворона» быстро схватила её за кинжал.
— Послушай, голубушка, — сказал ей её новый проводник, — ты думаешь, что меня проведёшь? Не на таковского напала. Сразу увидел, что веду бабу. Так что же ты думаешь. что я для тебя так, ни за что, буду рисковать собою и даром трудиться? Правда, за то кардинал меня отпустил, а то, пожалуй, я целую жизнь просидел бы у них в погребе; но ведь не довольно иметь право гулять по белому свету; бывает нужно что-нибудь и покушать. Да если я ещё попадусь с тобой, то, пожалуй, на решётке инквизиторской изжарят. Там что у вас такое было с кардиналом, я не сужу. Известно — дело житейское. Но ведь недаром же ты в молодца переряжалась и самого строгого кардинала в грех вводила. Вот прежде всего эту игрушку, тут ведь золото есть, я возьму; а потом отдавай всё, что есть с собой и что тебе подарил этот старый греховодник, что не постыдился твои амуры в церкви Божией принять...
И проводник, отняв у Али-Эметэ кинжал, ограбил её дочиста, отняв не только шпагу, кошелёк, крестик и часы, но даже оборвав шитые золотом по белому атласу борты камзола.
Снимая с неё всё, он приговаривал:
— Крикни, крикни только, — я убегу, спрячусь, и тебя отцы инквизиторы живую изжарят.
Обобрав всё до нитки, что только ему полюбилось, он указал ей на ворота, представлявшие выход из сада.
— Вот, можешь идти! Да не попадайся сбирам, коли не хочешь быть зажаренною; а я пока здешний житель. Имею честь кланяться!
И он исчез.
Али-Эметэ пошла к отворенным воротам. Было уже утро. Солнце ярко отражалось на раззолоченных звёздах купола святого Петра. В городе начиналось движение. Но едва Али-Эметэ ступила шаг за ворота, как её кто-то схватил за плечо.
Это был один из стражей входа, папский сбир.
— Ты откуда? Ба, да это женщина!
— Бери её, тащи к отцу экзекутору! В инквизиции давно работы не было, так пусть чёрту на жаркое пойдёт! — проговорил другой сбир. Но вслед за тем он полетел от страшного толчка.
Тот, кто держал Али-Эметэ, тоже лежал уже на мостовой, а Али-Эметэ, бесчувственную, несли на руках к дожидавшему её экипажу.
Это был Чарномский и его люди.
— Феликс, ты спас меня! — проговорила Али-Эметэ Чарномскому, опомнившись уже в своём экипаже. — Они убить меня хотели. Твоей услуги я не забуду никогда!
На другой день разбитая, измученная, истерзанная Али-Эметэ едва могла подняться с постели, когда Мешеде доложила ей, что молодой человек, бродивший под её окнами, которому вчера назначена была аудиенция, пришёл и что обер-гофмаршал спрашивает, расположена ли она его принять.
Али-Эметэ отвечала утвердительно.
Патер Ганецкий, исправлявший в Риме при княжне должность обер-гофмаршала, вышел к молодому незнакомцу, введённому дежурным фурьером в приёмный зал.
— Ваше имя и звание? — спросил у него Ганецкий.
— Русского флота лейтенант Христенек.
Али-Эметэ вышла с своей вечно привлекательной улыбкой, мягкими приёмами, грациозными движениями.
— Вы русский морской офицер? — спросила Али-Эметэ.
— Точно так, ваше высочество, и счастлив, что имею случай выразить вам чувства моего рабского почитания...
— Вы обо мне слышали?
— Много слышал, ваше высочество; слышал о ваших несчастиях! Как русский, разумеется, я не мог не скорбеть душою; да не я один, многие, многие! А Бог даст, будут и все!
Христенек был серб, но по-русски и по-французски говорил в совершенстве и любил называть себя русским.
— Я надеюсь на милость Божию...
— Государыня, осчастливьте меня особой аудиенцией. Я имею много кое-чего передать вам!
— Я приглашаю вас обедать.
После обеда Али-Эметэ осталась одна с лейтенантом и спросила:
— Вы хотели говорить со мною?
— Да, ваше высочество. По вниманию к вашему положению и участию, всеми нами принимаемому в ваших несчастиях, я позволю себе спросить: вы писали графу Орлову?
— Да, но он мне не отвечал.
— Разве он мог отвечать через неизвестных лиц? Игра была бы слишком опасна! О таких вещах не пишут, ваше высочество, и даже если говорят, то так, чтобы и стены не могли слышать.
— Но как же бы я могла ему довериться?
— Графу Орлову довериться можно. Он рыцарь...
— Я не знаю его! Но, допуская, что он рыцарь, я могла рассчитывать, что, хотя из вежливости, он ответит мне: да или нет!
— Но отвечать — значит отвечать только «нет»; потому что отвечать «да», как я имел честь вашему высочеству доложить, можно только тогда, когда даже стены услышать не могут! Ведь тут идёт залогом голова, да не только его голова, — своею жизнью граф Орлов не задумался бы рисковать, — но он не имел права рисковать вашей жизнью и жизнью всех нас, готовых идти за ним в огонь и в воду.
— Что же он хочет, что бы я сделала?
— Чтобы вы переговорили с ним лично! Он нарочно послал меня, чтобы передать вам это. Я его генералс-адъютант.
— Чем вы докажете, что я могу вам верить?
— Его письмом, написанным очень осторожно, как вы изволите усмотреть, так что незнающий хода дела ничего из него не поймёт; но для вас оно может быть ясно, как ответ на ваше письмо. Оно, для большей скрытности, писано на моё имя; но самый смысл его вам укажет, что оно писано не ко мне!
С этими словами Христенек осторожно, оглядываясь во все стороны, передал княжне письмо.
Али-Эметэ начала его тут же читать, как бы показывая тем, что она выше опасений. Письмо было написано по-немецки и начиналось:
«Любезный Христенек!
Не всё, что думается — пишется, не всё, что желается — высказывается. На Бога грешно роптать, я хорошо поставлен; но нельзя сказать, чтобы не желал большего. Нужно поговорить, условиться лично, а тогда, пожалуй, и манифестик пригодится. И на медведя идут, так вперёд обговариваются да обусловливаются; а тут что твой медведь! Честь честью, а дело делом; в деле же патриотизм сам собой выплывает. Поэтому нужно прежде всего спеться и увериться в том, что есть, и в том, что должно быть». Письмо было подписано самим графом, и, кроме того, к нему была приложена его гербовая печать.
— Так что же делать? — спросила Али-Эметэ.
— Ехать в Пизу и видеться с графом.
Али-Эметэ молча качала ножкою.
— Я бы поехала, — сказала она, — но, признаюсь, я не в средствах, у меня есть долги...
— Об этом не беспокойтесь, Джекинс всё заплатит и денег, сколько нужно, даст.
— Мне нужно, по крайней мере, 2 тысячи золотых.
На другой день Джекинс привёз ей 2000 золотых, и Али-Эметэ, щедро одарив всех, в том числе и аббата Рокотани, в трёх роскошных экипажах выехала из Рима. А Джекинс стал уплачивать её римские долги. Пришлось заплатить 11 000 червонных.
«Если прибавить к ним 2000 последних, да 3500 кардинала Альбани, да хоть тысячу или две посторонних, то выйдет всего семнадцать или восемнадцать с половиной тысяч золотых, — рассчитывал Джекинс, принимая в основание выдачи, сделанные по приказам кардинала Альбани, графа Льяняско, аббата Рокотани и других. И всё это в три с половиной месяца! Ай да барыня! Это именно всех богатств Персии недостанет! — сказал Джекинс. — Впрочем, моё дело сторона; я обеспечен, вполне обеспечен...»
Христенек ехал за Али-Эметэ следом.
V
РУССКОЕ УДАЛЬСТВО
Приняв главное начальство над эскадрами, Орлов созвал к себе командиров и старших офицеров со всех судов.