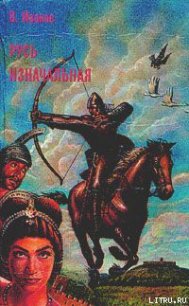Русь Великая - Иванов Валентин Дмитриевич (книги регистрация онлайн TXT) 📗
– Теперь вставляй стрелу, целься и спускай, – сказал Жужелец. И сам проделал, как сказал, но без стрелы. Спуск освобождал сразу и ворот, и ящичек.
– Лук надежней и быстрей, – рассудил боярин Стрига.
– Верно, верно, – согласился Жужелец. – Зато самострел силы не требует, и научиться бить из него легко ли, трудно ли, но не сравнить с луком. Немного дней потратишь – и стрелок. Из лука годами учатся, и то иной никак не добьется. Бьет самострел сильно. Зато и стрела не остра – ей не к чему. Тонкое острие сломится, а такое пробивает кольчугу. Бери, боярин. Глядишь, пригодится боярыне. Это оружие страшное, из него и ребенок, и женщина могут свалить любого витязя. Был бы глаз верный. Стрел даю десяток. Прикажешь кузнецу, он откует еще. Стрела простая, закалил острие – и все тут.
– Спасибо, – ответил Стрига, – это вещь дорогая, ты не посетуй, когда лебедь моя отдаривать будет.
– Оставь, боярин, я уже все получил по любви, когда она за мной присмотрела. Одна она надо мной не посмеялась в ту пору-то, помнишь?
– Помню, – ответил Стрига.
– Ты между нами не вставай, – твердо сказал Жужелец. – Дару моему нет цены, другого самострела ей никто не сделает. – И, покончив с одним, Жужелец перешел на другое: – Недавно латинские епископы на своем соборе в Риме запретили арбалеты. Дескать, чрезмерно смертоносное оружие. Шутники латинцы! Да, небо святое, земля-то грешная.
– На грешной земле ты себя безоружным оставил? Или стал латинянином? – со смехом спросил Жужельца боярский дружинник Стефан.
Нагнувшись, Жужелец достал из-под стола еще самострел, но грубой работы и с рычагом для натяжки.
– Есть чем встретить друзей, – возразил он Стефану.
– А почему этот другой?
– Для этого силы больше нужно, да и некрасив он. Пока его делал, надумал иное.
Проводив гостей, Жужелец взял заступ. Одиночество учит быть собственным собеседником. Обращаясь к собаке, Жужелец сказал:
– День нам нынче выдался теплый. Хотел я просить Стригу убрать половца. И не просил. Почему? Не хотел, чтобы узнали… Боярыня-то, лебедушка, могла побрезговать кровью. Женское дело, понимаешь? Не понравится – в руки не возьмет. Или возьмет, кто разберется?.. Ты что скажешь? – Собака сидела, глядя грустными глазами в глаза человеку. – Эх ты! Не самострел, где бы я был сейчас, а? Куда, в ад либо в рай? Не знаешь? Я тоже не знаю. Пойдем-ка яму копать.
– Жужелишко этот явился к нам неведомо откуда, невесть зачем, – рассказывал Симону дружинник Стефан. – Однако же деньги у него были. Назвался мастером, поставил себе в крепости избу малую, сдружился с нашими кузнецами, и, верно, калить железо они стали крепче. Он же, Жужелишко, любую вещь может сделать, из меди ли, из железа, бронзовую ли отлить. Серьги красивые, обруч на руку, застежки.
Потихоньку он сделал себе крылья, не птичьи, а похожие на нетопырьи. Жилки из дерева, перепонки из пергамента, каждое крыло повыше его ростом, а в длину больше сажени. Крылья у себя в избе держал, слова о них не проронил и часто ходил на вал – место искал. Выбрал день – ветер с юга дул. Вынес он крылья и пошел на вал. Кто заметил, за ним увязались, вернее сказать, за крыльями. И я тогда там же случился, и, как все, не мог понять – что он тащит? Он стал на валу, руки в петли продел – нетопырь, да и только. Выждал и прыгнул. Спорили потом: летел, не летел. По мне, он будто бы чуть-чуть поднялся, но тут же ему крылья заломило за спину, и он пал вниз, угодил в ров, в воду. Пока мы через ворота бежали, он едва не утонул. И от крыльев избавиться не может, и ушибся сильно, грудь разбил. Отец Петр тогда в воскресной проповеди говорил, что нельзя людям летать, не птицы – грех, мол. После службы боярин мой при всех с отцом спорил. Тот все о волховании твердил. Боярин же ему: от евангелия нет запрета!
– А Жужелец? – перебил Симон.
– Долго лежал, не позаботься боярыня Елена – не встать ему. Ожил, крылья починил, доделал что-то и – надо ж! – опять прыгнул с вала. На тот раз крылья не загнулись, съехал он по воздуху, как на санках с горки, и лег на траву шагах в ста за рвом. И сам же решил – пустое дело.
– Когда ж это было?
– Уж лет десять прошло. С той поры он себе жилье устроил в том месте, а в крепость приходит только зимовать месяца на три. С его руками другой давно мошну бы набил. Он же глуп, сделает одному, другому, и все. Слышал сам, силу какую-то ищет! Пустой человек, но речист.
За вечерней трапезой в доме Стриги лекари Соломон и Парфентий шутливо хвалились длинным днем, доставшимся им на долю: денег набрали немало.
– Ты же знаешь, боярыня-матушка, – говорил Парфентий, – ни Соломон-друг, ни я никогда о цене не говорим, предупреждаем – нет, не давай. В Переяславле, в Чернигове, в Киеве за это иные лекари нас порочат, люди же пользуются. Нынче все здешние шли с деньгами. Мы с Соломоном привыкли к людям, видишь – из последнего дает. Говоришь – не надо. Нет, сует. Возьми, мол, за труд, за лекарство возьми. Приходилось сдачи давать. Горды ваши кснятинцы. Мы с Соломоном порешили отделить часть. Ты, боярыня, возьми. Есть такие, которым нужно помочь.
Боярыня Елена с благодарнстью приняла мешочек с серебряной и медной монетой, рассказала, что в Кснятине есть и свои лекари, пользуют людей травами, наговорами и помогают. По-разному бывает.
Боярин Стрига перевел речь на свое. Рассказывал о наймитах, которых держал он для обработки своей земли. Видел он в наймитстве необходимость, досадуя, что за наймитами нужен присмотр. Для того с ними и жил старый, ослабевший дружинник Глазко. Глазку уж не под силу походы. Не будь его, что делать? Держать наймита над наймитами? Стрига осуждал своих работников за леность.
– Требовать нужно сильнее, – советовал Симон.
– Я требую, – возражал Стрига. – Сам ты видел. Грех в ином. У наймитов половину души бог вынул. У меня тут не одни наймиты. Есть и половники – из тех, кто пришел, ничего не имея. Даю лошадей, коров, упряжь, плуги, бороны – все, что нужно, и мне второй сноп во всем. Пишем рядную грамоту на год, на два, на три. На четвертый год кончает ряд почти каждый. Покупает лошадь, коровы свои, хозяйство поставил, ему половничество ни к чему, он уж вольный. Таким помешать может болезнь не вовремя, либо саранча налетит, как было в пятом году от этого, – словом, несчастье. Им за чужой спиной скучно. Если б на поле, где мои наймиты, жили половники, пашни они б подняли в два раза больше, а то и в три.
– Откуда ж приходят? – спросил Симон, вспомнив жалобы Стриги на отход людей Кснятина.
– Чаще всего из-под Киева либо из самого Киева, – ответил Стрига. – Бывают из туровских, дорогобужских, из волынских.
– Беглые? Из должников?
– Может быть. Я ловить не обязан.
– Там людям потеснее живется, потеснее, – заметил лекарь Парфентий.
– Отходят ко Владимиру-на-Клязьме, к Суздалю. Там спокойнее, – сказал Стрига, взглянув на жену: помню-де ночной разговор.
– А мастер многорукий и летатель, Жужелец твой, из каких? – спросил княжич Симон.
– Не знаю. Придя, он слово мне дал, что не беглый он, что нет за ним никакого воровства. На духу он бывает у отца Петра, душу правит. Это дело тайное между ними. Поучитель наш, – Стрига кивнул на священника, который мирно дремал после трапезы, устроившись на широкой лавке у стены, – сказал мне: одного вы поля горькие ягодки, с одного дерева кислые яблочки.
– И скажу, и скажу, – отозвался отец Петр, не поднимая головы, – грешники вы нераскаянные, в вас всех язычество с христианством перемешано, как в старых сотах пчелиных воск с медом да с дохлыми пчелами. Ох-хо-хо, будет мне за вас ответ перед богом, что допускаю вас к причастию, – закончил отец Петр, повернувшись на другой бок.
Будто бы ничего и не было, Стрига продолжал:
– Жужелец пошел дальше греческого сказания. Он вместе Дедал и Икар. Человек он разумный, тому свидетель его мастерство.