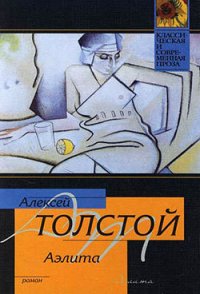Князь Серебряный - Толстой Алексей Константинович (электронные книги без регистрации TXT) 📗
За ним опричники, к удивлению народа, вывели оружничего государева, князя Вяземского, кравчего Федора Басманова и отца его Алексея, на которого Федор показал на пытке.
— Люди московские! — сказал Иоанн, указывая на осужденных, — се зрите моих и ваших злодеев! Они, забыв крестное свое целование, теснили вас от имени моего и, не страшася суда божия, грабили животы ваши и губили народ, который я же их поставил боронити. И се ныне приимут, по делам своим, достойную мзду!
Вяземский и оба Басмановы, как обманувшие царское доверие, были осуждены на жестокие муки.
Дьяк прочел им обвинение в намерении извести царя чарами, в преступных сношениях с врагами государства и в притеснении народа именем Иоанновым.
Когда палачи, схватив Федора Басманова, взвели его на помост, он обернулся к толпе зрителей и закричал громким голосом:
— Народ православный! хочу перед смертью покаяться в грехах моих! Хочу, чтобы все люди ведали мою исповедь! Слушайте, православные…
Но Малюта, стоявший сзади, не дал ему продолжать. Он ловким ударом сабли снес ему голову в тот самый миг, как он готовился начать свою исповедь.
Окровавленный труп его упал на помост, а отлетевшая голова подкатилась, звеня серьгами, под ноги царскому коню, который откачнулся, фыркая и косясь на нее испуганным оком. Басманов последнею наглостью избавился от ожидавших его мучений.
Отец его Алексей и Вяземский не были столько счастливы. Их, вместе с разбойником Коршуном, взвели на сруб, где ожидали их страшные снаряды. В то же время старого мельника потащили на костер и приковали к столбу.
Вяземский, измученный пыткой, не имея силы стоять на ногах, поддерживаемый под руки палачами, бросал дикие взгляды по сторонам. В глазах его не было заметно ни страха, ни раскаяния. Увидев прикованного к столбу мельника и вокруг него уже вьющиеся струи дыма, князь вспомнил его последние слова, когда старик, заговорив его саблю, смотрел на бадью с водою; вспомнил также князь и свое видение на мельнице, когда он в лунную ночь, глядя под шумящее колесо, старался увидеть свою будущность, но увидел только, как вода почервонела, подобно крови, и как заходили в ней зубчатые пилы и стали отмыкаться и замыкаться железные клещи…
Мельник не заметил Вяземского. Углубленный в самого себя, он бормотал что-то себе под нос и с видом помешательства приплясывал на костре, гремя цепями.
— Шикалу! Ликалу! — говорил он, — слетелися вороны на богатый пир! Повернулося колесо, повернулося! Что было высоко, то стало низко! Шагадам! Подымися, ветер, от мельницы, налети на ворогов моих! Кулла! Кулла! Разметай костер, загаси огонь!
И в самом деле, как будто повинуясь заклинаниям, ветер поднялся на площади, но, вместо того чтобы загасить костер, он раздул подложенный под него хворост, и пламя, вырвавшись сквозь сухие дрова, охватило мельника и скрыло его от зрителей.
— Шагадам! Кулла! Кулла! — послышалось еще за облаком дыма, и голос замер в треске пылающего костра.
Наружность Коршуна почти вовсе не изменилась ни от пытки, ни от долгого томления в темнице. Сильная природа его устояла против приготовительного допроса, но в выражении лица произошла перемена. Оно сделалось мягче; глаза глядели спокойнее.
С той самой ночи, как он был схвачен в царской опочивальне и брошен в тюрьму, угрызения совести перестали терзать его. Он тогда же принял ожидающую его казнь как искупление совершенных им некогда злодейств, и, лежа на гнилой соломе, он в первый раз, после долгого времени, заснул спокойно.
Дьяк прочел перед народом вину Коршуна и ожидающую его казнь.
Коршун, зашедши на помост, перекрестился на церковные главы и положил один за другим четыре земных поклона народу, на четыре стороны площади.
— Прости, народ православный! — сказал он. — Прости меня в грехах моих, в разбое, и в воровстве, и в смертном убойстве! Прости во всем, что я согрешил перед тобою. Заслужил я себе смертную муку, отпусти мне вины мои, народ православный!
И, повернувшись к палачам, он сам продел руки в приготовленные для них петли.
— Привязывайте, что ли! — сказал он, тряхнув седою кудрявою головой, и не прибавил боле ни слова.
Тогда, по знаку Иоанна, дьяк обратился к прочим осужденным и прочел им обвинение в заговоре против государя, в намерении отдать Новгород и Псков литовскому королю и в преступных сношениях с турским султаном.
Их готовились повести — кого к виселицам, кого к котлу, кого к другим орудиям казни.
Народ стал громко молиться.
— Господи, господи! — раздавалось на площади, — помилуй их, господи! Приими скорее их души!
— Молитесь за нас, праведные! — кричали некоторые из толпы. — Помяните нас, когда приидете во царствие божие!
Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать:
— Гойда! Гойда! Да погибнут враги государевы!
Но в эту минуту толпа заколебалась, все головы обратились в одну сторону, и послышались восклицания:
— Блаженный идет! Смотрите, смотрите! Блаженный идет!
В конце площади показался человек лет сорока, с реденькою бородой, бледный, босой, в одной полотняной рубахе. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устах играла странная, детски добродушная улыбка.
Вид этого человека посреди стольких лиц, являвших ужас, страх или зверство, резко от них отделялся и сильно на всех подействовал. Площадь затихла, казни приостановились.
Все знали блаженного, но никто еще не видывал на лице его такого выражения, как сегодня. Против обыкновения, судорога подергивала эти улыбающиеся уста, как будто с кротостию боролось другое, непривычное чувство.
Нагнувшись вперед, гремя веригами и железными крестами, которыми он весь был обвешан, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шел прямо на Иоанна.
— Ивашко! Ивашко! — кричал он издали, перебирая свои деревянные четки и продолжая улыбаться, — Ивашко! Меня-то забыл!
Увидев его, Иоанн хотел повернуть коня и отъехать в сторону, но юродивый стоял уже возле него.
— Посмотри на блаженного! — сказал он, хватаясь за узду царского коня. — Что ж не велишь казнить и блаженного? Чем Вася хуже других?