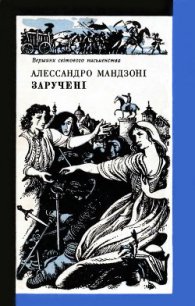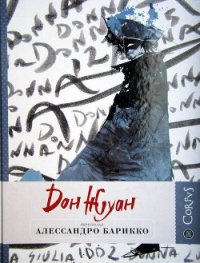Обрученные - Мандзони Алессандро (книги онлайн txt) 📗
Кардинал в эту минуту был занят разговором о приходских делах с доном Абондио, так что последний не имел возможности, как ему хотелось, дать со своей стороны некоторые наставления женщинам. И только когда дон Абондио выходил и они попались ему навстречу, он успел подмигнуть им в знак того, что, мол, доволен ими и пусть они продолжают держать язык за зубами.
После первых приветствий с одной стороны и первых поклонов — с другой, Аньезе вынула из-за пазухи письмо и подала его кардиналу со словами:
— От синьоры донны Прасседе. Она говорит, что хорошо знает вашу милость, монсиньор, оно и понятно: все большие синьоры должны знать друг друга. Почитайте-ка, увидите сами.
— Хорошо, — сказал Федериго, прочитав письмо и выжав, наконец, смысл из цветов красноречия дона Ферранте. Он знал эту семью достаточно для того, чтобы быть уверенным, что Лючию приглашали туда с добрыми намерениями и что там она будет в полной безопасности от козней и приставаний своего преследователя. Что же касается его мнения об умственных способностях донны Прасседе, то на этот счёт у нас нет определённых сведений. Вероятно, она не была той особой, которую он бы выбрал сам для подобной цели; но, как мы уже говорили или намекнули в другом месте, не в его правилах было вмешиваться в чужие дела, чтобы исправлять их к лучшему.
— Примите с миром и эту разлуку и неведение, в каком вы находитесь, — прибавил Федериго потом, — верьте, что это скоро кончится и что всевышний хочет привести всё к концу, какой ему, видимо, угодно было наметить, — и твёрдо запомните, что его воля — это лучшее, что для вас может быть.
Он отдельно обратился с ласковым напутствием к Лючии и, сказав несколько слов утешения обеим, благословил и отпустил женщин.
Не успели они выйти, как их обступила, можно сказать, вся деревня, целый рой друзей и подруг, которые поджидали их и повели домой словно в триумфальном шествии. Женщины наперебой поздравляли Лючию и Аньезе, охали, забрасывали их вопросами и громко выражали неудовольствие, услыхав, что Лючия на другой день уезжает. Мужчины наперебой предлагали свои услуги. Каждому хотелось в эту ночь посторожить около их домика. По этому поводу наш аноним даже счёл нужным сложить поговорку: «Хотите, чтобы к вам спешили на помощь со всех сторон? Старайтесь не нуждаться в этом».
Такой приём смутил и растрогал Лючию, — Аньезе же такие пустяки мало смущали. Но вообще-то эти излияния оказали хорошее воздействие на Лючию, несколько отвлекая её от мыслей и воспоминаний, которые, увы, среди всего этого гама воскресли в ней на пороге родного дома, в этих комнатушках, при виде знакомых предметов.
Когда раздался звон колоколов, возвещавший начало службы, все тронулись к церкви, и шествие это превратилось для наших женщин в новый триумф.
По окончании службы дон Абондио, побежавший взглянуть, хорошо ли Перпетуя всё приготовила к обеду, был вызван к кардиналу. Он немедленно явился к своему высокому гостю, который, дав ему приблизиться, повёл такую речь:
— Синьор курато, — слова эти были сказаны тоном, который сразу давал понять, что это начало длинного и серьёзного разговора, — синьор курато, почему вы не сочетали браком эту бедняжку Лючию с её женихом?
«Ну, значит выложили всё начисто нынче утром!» — успел подумать про себя дон Абондио и невнятно забормотал:
— Ваше высокопреосвященство изволили, разумеется, слышать, какой переполох вызвало это дело: получилась такая путаница, что и по сей день ничего не разберёшь. Вы, ваша милость, можете судить об этом сами хотя бы по тому, что после стольких перипетий девушка эта ныне чудесным образом очутилась здесь, а юноша, тоже после всяческих перипетий, находится неизвестно где.
— Я вас спрашиваю, — перебил кардинал, — правда ли, что ещё до всех этих событий вы отказались совершить венчание в установленный день, как вас просили; и что за причина этого?
— Конечно… если бы ваша милость знали… какие запугивания… какие грозные приказания молчать…
И он умолк, не закончив фразы, в позе, которая почтительно давала понять, что желание узнать больше было бы нескромностью.
— Послушайте, — сказал кардинал голосом более строгим, чем обычно, приняв соответствующий вид, — не забывайте, что ваш епископ, исполняя свой долг и для вашего же оправдания, желает слышать от вас, почему вы не сделали того, что при обычных обстоятельствах вы обязаны были сделать.
— Монсиньор, — отвечал дон Абондио, согнувшись в три погибели, — я вовсе не хотел сказать этим… Но я подумал, что раз дело это такое запутанное да давнее и помочь-то уж ничем нельзя, то незачем его и ворошить. Впрочем, всё-таки… я ведь знаю, ваше высокопреосвященство не захочет выдать своего бедного курато. Потому что, видите ли, монсиньор, ваше высокопреосвященство не может всюду поспеть, а я ведь останусь здесь, предоставленный… Всё же, если вы мне приказываете, я расскажу, всё вам расскажу.
— Говорите! Я хочу только одного — знать, что вы невиновны.
Тогда дон Абондио принялся рассказывать горестную историю. Но он скрыл имя главного зачинщика, назвав его «важный синьор», прибегнув всё же к благоразумию, насколько это было возможно в таком затруднительном положении.
— И никаких иных побуждений у вас не было? — спросил кардинал, когда дон Абондио кончил.
— Я, возможно, не совсем ясно выразился, — ответил последний, — мне было запрещено совершать это венчание под страхом смерти.
— И это кажется вам достаточным основанием для того, чтобы уклониться от выполнения вашего прямого долга?
— Я всегда старался выполнять свой долг, даже если это было сопряжено с значительными для меня трудностями, но когда дело идёт о жизни…
— А когда вы предстали перед лицом Церкви, — ещё более внушительным тоном сказал Федериго, — с тем, чтобы посвятить себя служению ей, сулила ли она вам безопасность вашей жизни? Говорила она вам, что обязанности, связанные с вашим саном, свободны от каких-либо случайностей, ограждены от всякой опасности? Или, быть может, она говорила вам, что там, где начинается опасность, кончается долг? А не говорила ли она вам как раз обратное? Не предупреждала ли она, что посылает вас как агнца в стадо волков? Разве вы не знали, что существуют насильники, которым может не понравиться то, что будет приказано вам? Или тот, кто дал нам учение и пример, в подражание кому мы позволяем называть нас и называемся пастырями, сходя на землю для дела искупления, может быть, тоже ставил условием спасение своей жизни? Неужели для спасения её, повторяю, для пребывания нескольких лишних дней на земле ценою милосердия и долга нужно было святое помазание, возложение рук, благодать священства? Чтобы даровать такую доблесть и преподать такое учение, хватит и мирской жизни. Да что я говорю? О стыд!.. Мир и сам не принимает такого учения — в мире тоже есть свои законы, которые предписывают и зло и добро; в мире тоже есть своё евангелие, но евангелие гордыни и ненависти; и там не допускают утверждения, что любовь к жизни является основанием для нарушения земных заповедей. Не допускают, — и все повинуются. А мы? Мы, сыны и вестники искупления! Что стало бы с Церковью, если бы таким языком заговорили все ваши собратья? Где была бы она, явись она в мир с такими заповедями?
Дон Абондио стоял с низко опущенной головой: дух его, подавленный такими доводами, чувствовал себя словно цыплёнок в когтях сокола, который поднял его в неведомую высь, в такие просторы, воздухом которых он никогда не дышал. Понимая, что ведь нужно что-то ответить, он сказал с вынужденною покорностью:
— Монсиньор, выходит — я виноват. Раз жизнь моя не принимается в расчёт, не знаю, что и сказать. Но когда приходится иметь дело с людьми известного рода, с людьми, в руках которых сила, и они не хотят слушать никаких доводов, — право, какой толк разыгрывать из себя храбреца! А это такой синьор, которого нельзя ни одолеть, ни даже сквитаться с ним.
— А разве вы не знаете, что для нас пострадать за правое дело значит победить! И если вы не знаете этого, о чём же вы говорите в ваших проповедях? Чему вы учите? Какую благую весть возвещаете вы несчастным? Кто требует от вас, чтобы вы силой побеждали силу? С вас никто, конечно, не спросит в один прекрасный день, сумели ли вы дать отпор власть имущим, — ни такой миссии, ни возможностей для этого вам никто не давал. Но с вас, конечно, спросят, пустили ли вы в ход то оружие, которое было в ваших руках, для выполнения того, что было вам предписано, даже если бы нашлись дерзкие, пытавшиеся помешать вам.