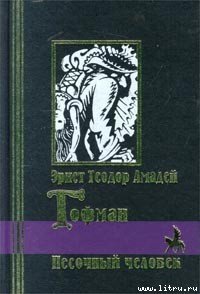Мадемуазель де Скюдери - Гофман Эрнст Теодор Амадей (мир книг txt) 📗
Скюдери невольно вздрогнула.
— Видите ли, сударыня, — продолжал Дегре, — видите ли, от вас не потребуют, чтобы вы еще раз шли под те мрачные своды, которые внушают вам ужас и отвращение. Оливье приведут к вам в дом, как свободного человека, ночью, не возбуждая чьего бы то ни было внимания. За ним будут следить, но подслушивать не будут, так что он сможет свободно во всем признаться вам. Вам самой нечего опасаться этого несчастного, за это я жизнью готов отвечать. О вас он говорит с благоговением. Он клянется, что только злой рок, не позволивший ему раньше увидеться с вами, привел его к гибели. А из всего, что расскажет Брюссон, вы сообщите нам ровно столько, сколько найдете нужным. Кто может заставить вас поступить иначе?
Взгляд Скюдери был исполнен глубокой задумчивости. Ей казалось, что она должна повиноваться высшей силе, требующей от нее разгадки страшной тайны, что она уже не может вырваться из этих странных пут, в которые попала против своей воли. Внезапно решившись, она с достоинством ответила Дегре:
— Бог поддержит меня и даст мне твердость духа.
Приведите ко мне Брюссона, я с ним поговорю.
Так же как и в тот раз, когда Брюссон принес ящичек, в полночь раздался стук в наружную дверь. Батист, предупрежденный о ночном посещении, отворил. Ледяной трепет охватил Скюдери, когда по тихому звуку шагов, по приглушенному шепоту она поняла, что стража, приведшая Брюссона, разместилась в доме.
Наконец дверь тихо отворилась. Вошел Дегре, следом за ним — Оливье Брюссон, освобожденный от цепей, в приличном платье.
— Вот, — молвил Дегре, почтительно кланяясь, — вот Брюссон, сударыня! — и вышел из комнаты.
Брюссон опустился перед Скюдери на колени, с мольбой простер к ней сложенные руки, и слезы потоком полились из его глаз.
Побледнев, не в силах вымолвить и слово, Скюдери глядела на юношу. Черты его лица изменены, искажены были страданием, горькими муками и вместе с тем являли выражение чистейшей искренности. Чем дольше Скюдери вглядывалась в лицо Брюссона, тем ярче оживала в ней память о каком-то человеке, которого она любила когда-то, но не могла отчетливо вспомнить теперь. Все страхи рассеялись, она забыла, что на коленях перед ней — убийца Кардильяка, и спросила тем спокойно-благожелательным и милым тоном, который был ей свойствен:
— Ну, что же вы хотите мне сказать, Брюссон?
Юноша, по-прежнему стоя на коленях, с неподдельной глубокой тоской вздохнул и сказал:
— Ах, сударыня, неужели же вы, которую я так почитаю, ставлю так высоко, неужели вы совсем не помните меня?
Скюдери, вглядываясь в него еще пристальнее, ответила, что она действительно нашла в чертах его лица сходство с кем-то, кто был ей когда-то дорог, и только этому сходству он обязан тем, что она, преодолевая в себе глубокое отвращение к убийце, спокойно слушает его. Брюссону слова эти причинили острую боль, он быстро встал и, опустив долу мрачный взор, отступил на один шаг. Потом он глухо произнес:
— Так вы совсем забыли Анну Гийо? Перед вами ее сын Оливье, тот мальчик, которого вы качали на коленях.
— О боже! боже! — воскликнула Скюдери, обеими руками закрыв лицо и опускаясь на подушки. Недаром Скюдери пришла в такой ужас. Анна Гийо, дочь обедневшего горожанина, с малых лет находилась в доме Скюдери, которая воспитала ее и с материнской любовью о ней заботилась. Став взрослой, она познакомилась с красивым, добрых нравов юношей, по имени Клод Брюссон, и он посватался к ней. Ему как очень искусному часовщику был в Париже обеспечен прекрасный заработок, а девушка всей душой его любила, потому Скюдери и не поколебалась дать согласие на брак своей приемной дочери. Молодые устроились, зажили тихой и счастливой семейной жизнью, и любовные узы стали еще крепче, когда у них родился сын, красивый мальчик, вылитый портрет своей милой матери.
Скюдери боготворила маленького Оливье, которого на целые часы, даже целые дни разлучала с матерью, лаская и балуя его. Мальчик совершенно привык к ней и оставался с нею так же охотно, как с родной матерью. Прошло три года, и из-за происков товарищей по ремеслу, соперничавших с Брюссоном, работы у него с каждым днем становилось меньше, а под конец ему уже с трудом удавалось прокормить себя и семью. К тому же им овладела тоска по прекрасной родной Женеве, и вот он вместе с женой и сыном переселился туда, хотя Скюдери и обещала им всяческую поддержку, лишь бы они не уезжали. Анна несколько раз писала своей приемной матери, потом писем больше не было, и Скюдери заключила, что счастливая жизнь на родине Брюссона изгладила воспоминание о прошлых днях.
Теперь исполнилось ровно двадцать три года с тех пор, как Брюссон со своей семьей покинул Париж и переехал в Женеву.
— О ужас, — воскликнула Скюдери, когда немного пришла в себя, — о ужас! Ты — Оливье? Сын моей Анны!..
— Наверно, — спокойно и твердо сказал Оливье, — вы, сударыня, никогда не думали, что мальчик, которого вы баловали, как самая нежная мать, качали на коленях, кормили лакомствами, называли самыми ласковыми именами, возмужав, предстанет перед вами обвиненный в кровавом злодеянии? Меня есть в чем упрекнуть, chambre ardente имеет право покарать меня как преступника, но — клянусь спасением моей души! Пусть умру от руки палача! — я никогда не проливал крови, и не по моей вине погиб несчастный Кардильяк!
Оливье задрожал, зашатался при этих словах. Скюдери молча указала ему на стоявшее возле нее креслице. Юноша медленно опустился в него.
— У меня, — начал он, — было время приготовиться к свиданию с вами, на которое я смотрю как на последний дар смилостивившегося неба, и запастись спокойствием и твердостью, необходимыми для того, чтобы рассказать вам историю моих страшных, моих неслыханных несчастий. Будьте милосердны и выслушайте меня спокойно, как бы ни ужаснула вас тайна, о которой вы и не подозревали, а теперь она откроется вам. Ах, если бы мой бедный отец никогда не уезжал из Парижа! Сколько я помню нашу жизнь в Женеве, я все время чувствую на себе лишь слезы моих безутешных родителей, их жалобы, которые, хоть я их и не понимал, тоже доводили меня до слез. Лишь позднее я отчетливо осознал и по-настоящему понял, в какой глубокой нищете жили отец и мать, какие тяжелые лишения они терпели. Отец обманулся во всех своих надеждах. Сокрушенный горем, совершенно разбитый, он скончался сразу после того, как ему удалось пристроить меня в ученики к золотых дел мастеру. Мать много о вас говорила, обо всем собиралась вам написать, но всякий раз ей мешало малодушие, — порождение нищеты. Малодушие и ложный стыд, что терзает смертельно раненное сердце, не давали ей исполнить это намерение. Через несколько месяцев после смерти отца и мать последовала за ним в могилу.
— Бедная Анна! бедная Анна! — в горе воскликнула Скюдери.
— Хвала и благодарение небесам, что ее уже нет в живых и она не увидит, как любимый сын ее, заклейменный позором, падет от руки палача! — Эти слова Оливье громко прокричал, и во взоре его, обращенном ввысь, было дикое отчаяние.
За дверью послышался шум, — кто-то расхаживал там.
— Ого! — с горькой усмешкой сказал Оливье. — Дегре будит своих товарищей, как будто я могу отсюда убежать! Однако продолжу мой рассказ. Хозяин обращался со мною строго, хотя вскоре я стал лучшим учеником и под конец даже превзошел его самого. Однажды в нашу мастерскую зашел приезжий, собиравшийся купить какие-то драгоценности. Когда ему на глаза попалось красивое ожерелье моей работы, он похлопал меня по плечу и, любуясь этой вещью, приветливо сказал: «Э-э, молодой друг мой, да это же превосходная работа. Право, я не знаю, кто бы мог с вами сравниться, если не считать Рене Кардильяка, — а он, конечно, самый великий ювелир на свете. Вот к кому вам надо было бы пойти; он с радостью примет вас в свою мастерскую, потому что вы один могли бы помогать ему в его замечательной работе и только у него вам есть чему поучиться». Слова незнакомца запали мне в душу. В Женеве я уже не находил себе покоя, могучая сила влекла меня прочь. Мне наконец удалось уйти от своего хозяина. Я приехал в Париж. Рене Кардильяк принял меня холодно и сурово. Но я не отставал от него, пока он не дал мне работу, правда самую незначительную. Я должен был сделать маленькое колечко. Когда я принес ему свою работу, он уставился на меня сверкающими глазами, как будто хотел заглянуть мне в душу. А потом сказал: «Ты хороший и умелый подмастерье, можешь поселиться у меня в доме и работать в мастерской. Я буду хорошо платить тебе, останешься доволен». Кардильяк свое слово сдержал. Я уже несколько недель жил у него, но еще не видел Мадлон, которая, если не ошибаюсь, находилась в то время в деревне у какой-то тетки. Наконец она приехала. О боже, что со мною было, когда я увидел этого ангела! Любил ли кто-нибудь так, как я? А теперь!.. О моя Мадлон!..