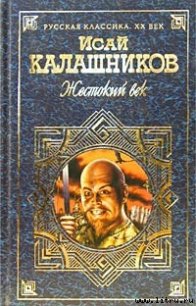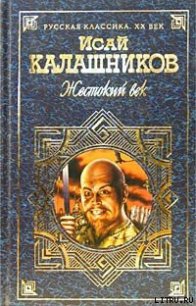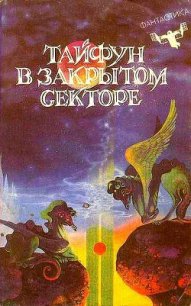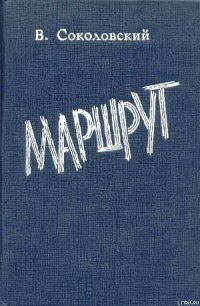Разрыв-трава - Калашников Исай Калистратович (читать полные книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
— Наше?
— Конечно, наше.
— И я могу им распоряжаться, как захочу?
— Конечно, Лукаша, ты хозяин. От века так хозяин домом правит.
— Как ни поверну, будешь согласна?
— Зачем спрашиваешь? Заранее согласна.
— Вот и брешешь, Еленка. Коммуна будет первым в нее пойду и все хозяйство сдам. Что скажешь? Запоешь другим голосом, а батю твоего разом кондрашка хватит.
— За что казнишь меня, бессовестный?
— Не казню, Еленка, понять ты меня должна.
— Поняла… Нету сердца у тебя! — Еленка всхлипнула, закрыла лицо руками.
Лучка навалился на кромку стола грудью, хмурясь, взялся водить пальцем по пустому блюдцу.
Неловко было Максе слушать весь этот разговор и притворяться дальше, что спит, становилось просто невозможно повернулся, громко, протяжно зевнул. Еленка быстренько вытерла ладонями слезы, улыбнулась.
— Здоровенько, Максим!
А Лучка все продолжал писать пальцем на блюдце, Еленка его за рукав тронула, попросила: — Собирайся, поедем.
Уже одетый, Лучка подошел к Максе, постоял молча, вроде как не решаясь что-то сказать, подал руку.
— Поправляйся…
Ничего к этому не добавил. Вышли друг за другом Лучка впереди, Еленка за ним. В руках у Еленки бич. И Максе показалось вдруг, что этим бичом она будет подстегивать своего мужика всю дорогу, чтобы в сторону не сворачивал. Бедный Лука, тоже сбился с панталыку. Будь на его месте кто другой, Корнюха, к примеру, жил бы припеваючи. А может, и нет. Сам-то он, Макся, попади в такой дом, радовался бы? Пожалуй, нет. Конечно, нет! Это что же получается? Царя и всех его выкормышей, солдатню разных держав вымели из страны, а Тришка, тесть Лучки, Пискун, хозяин Корнюхи, раньше миром правили и сейчас правят. Раньше на них спину гнули за кусок хлеба, и сейчас гнут. Хотя бы и он сам. Рад-радехонек, что Тришка не гонит с заимки. Красный партизан, завоеватель новой жизни! Э-эх!
6
Игнат собрался ужинать, когда звякнули ворота. Он подошел К окну. Во двор вводил подседланную лошадь какой-то бурят.
Привязав лошадь, гость, обходя лужи с красными отблесками закатного солнца, направился в зимовье. Игнат встретил его у порога и тут, вглядываясь в лицо, от удивления рот открыл.
— Бато?
Бурят сверкнул белыми зубами, засмеялся, отчего его узкие глаза будто и вовсе зажмурились.
— Я, Игнат.
— Откуда ты взялся, Батоха?
— А тут, рядом, в улусе Хадагта живу.
— Чудеса, да и только! Нам мужики сказывали, будто ты богу душу отдал.
— Не, японцы тут дырку провертели, — Бато показал чуть ниже правого плеча, — а ничего, заросло.
Рассказывая, Бато снял шубу, буденовку. Голова его была острижена наголо, и от этого лицо казалось еще более скуластым. Игнат начал было доставать из столешницы еще одну ложку, для Бато, и тут вспомнил: Батоха нехристь, чужая, поганая у него вера. Нельзя его кормить за общим столом, под образом бога, из общей посуды. А посадить отдельно обидится. Как ему не обижаться: были в партизанах ели из одного котелка, кусок хлеба пополам разламывали, мерзли в одном сугробе, грелись у одного костра. Война отодвинула различие в вере, в обычаях. Но то война. А как поступить сейчас?
Не слушая больше, что говорит Бато, Игнат бесцельно перебирал деревянные, с обкусанными краями ложки. Бато присел на лавку, глянул на него, замолчал, потом смущенно попросил:
— Давай другой посудка.
По ломаному выговору, по смущению Игнат понял, что Бато обо всем догадался. Махнул рукой:
— Садись, чего там!
И все же разговор за столом плохо ладился. Помутнела радость встречи, пропала куда-то душевная близость. Игнат пожалел, что нет дома Корнюхи. Тот старые обычаи ни во что не ставит, совсем обасурманился, и с ним Батоха ничего бы такого не почуял. Хотя… Батоха понятливый, завсегда моментом отзывался на доброе и худое. Просто даже жалко, что такой славный человек, а нехристь.
Поужинали торопливо, будто на пожар спешили.
— Ночевать будешь? — спросил Игнат.
— Поеду. Близко тут. Прошлым годом это место жить стал, у вашего батьки гостевал. Помер он? И мой батька помер. Давно уже. Дырку залечивали мне, тогда помер, а мать недавно померла. Тут дядя живет. К нему с сестрой кочевал.
Понемногу Бато разговорился. В улусе, сказывал, тоже ждут люди перемен, по-разному ждут: есть радуются, есть боятся.
— Ты как, не боишься?
— Я чужой скот пасу. У кого стадо больше, тот боится. Оно так… Но ить, Батоха, стариной попуститься надо, всем, чем отцы наши жили. Не жалко? Первым делом, верой…
— Что мне вера давала? Ничего мне вера не давала, я не лама! — быстро заговорил Бато. — Кто лама, тому шибко плохо…
Уклончиво, невразумительно ответил ему Игнат:
— Оно, конечно, потому как вера ваша не настоящая.
— Зачем такой стал? — с удивлением и укором спросил Бато. — Совсем другой человек был. Эх-хе, Игнат, пропадать будешь, погубить себя будешь! Не надо… Солнце греет, степь широкая живи!
Узенькие глаза Бато светились участием, и Игнат закряхтел, потупился, угрюмо обронил:
— Никак жалеть вздумал… Давай говорить про другое.
Проводил Бато за ворота, подал руку.
— Забегай, когда тут будешь.
Дома, убирая со стола, повертел в руках стакан, тот, из которого пил Бато, поставил на место. По доброму-то стакан надо было выкинуть, он теперь вроде как опоганенный, грех из него пить верующему. Но разве меньший грех принимать человека как друга, сидеть с ним за одним столом, а потом, едва он за порог, выкидывать в помойку все, что от него осталось, все, к чему прикоснулись его руки? Отчего так верой установлено, что ежели ты не семейский поганый? Неужели на всем белом свете, среди тьмы всякого народа, одни семейские отмечены перстом божьим, одни они чисты?
Так и не решил, что сделать со стаканом Батохи, так и не убрал со стола. Как в теплую затхлую воду, погрузился в свои думы, вновь вспомнил похороны отца, свежую могилу его, вмиг присыпанную снегом и ставшую, как все другие. Что же такое есть человек? Многие теперь говорят: бога нет, души нет. Для чего тогда жизнь?
На дворе стемнело. В избах зажглись огни. Хлопали ставни окон, запираемых на ночь, скрипели ворота, сонно взлаивали собаки. Игнату стало ясно, что Настя сегодня не придет. Одному сидеть в пустой избе тягостно, а пойти, считай, некуда. Но почему ни разу не сходил к уставщику? Уж он-то все о вере знает. Можно прямо сейчас к нему…
Уставщика застал за вечерним чаепитием. В исподней рубахе, с рушником на шее, разомлевший, сидел он у медного самовара, тянул чай маленькими глоточками, тяжело пыхтел.
— Ты чего ко мне, по делу? — прогудел Ферапонт.
— Как сказать… Вроде бы и не по делу…
— Сейчас, сынок, приходят ко мне только для того, чтобы попросить что-то.
— Трудно живется людям, Ферапонт Маркелыч…
— Трудно, ох, трудно, вздохнул Ферапонт. Ну да вам-то что, сами все сбаламутили. Радуетесь, должно?
— Чему радоваться-то?
— Чего же не радоваться… Стариков можно теперь ни во что не ставить, меня, пастыря духовного, стороной обегать. Кругом слобода. На все ноги расковались, а только худо все кончится, сынок. Без подков, сам знаешь, чуть ступил на гололед брык набок.
Не попреки и жалобы хотел услышать Игнат от Ферапонта, совсем за другим к нему шел. Помрачнел.
— Говоришь так, будто я во всем виноват.
— Не ты один. Но и ты. Все обольшевичились! — Ферапонт стянул с шеи полотенце, скомкал, бросил на лавку. — Дух свой унизили, чрево возвысили.
— А может, люди не виноваты в этом? Большие сумления в вере есть, кто на них ответит, распрояснит?
— Для истинно верующего не может быть никаких сумлений, а чуть пошатнулся, лукавый тут как тут. Зачнет сомущать на каждом шагу. Только истинно верующему не страшны ни люди-греховодники, ни козни нечестивого. А веру крепит молитва.
— Не всегда молитва поможет. Например, так… Бог запрещает человеку даже бессловесную скотину зря обижать. А мы людей другой веры презрением оскорбляем, есть с ним за одним столом гнушаемся. Это от бога или люди выдумали?