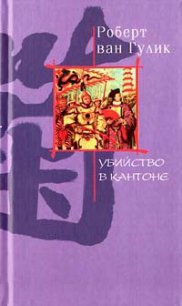Завоеватели - Мальро Андре (книги онлайн без регистрации полностью txt) 📗
И некоторое время спустя: «Есть страсть, с которой ничто не может сравниться, и для неё безразличны поставленные цели, ей не нужно ничего завоевывать. Эта страсть безнадёжна — она и есть одна из самых мощных опор насилия».
Призван в Иностранный легион французской армии в августе 1914-го, дезертировал в конце 1915-го.
Неверно. Его не призывали в Легион, он записался добровольцем. Ему казалось невозможным быть зрителем в этой войне. Его не интересовали глубинные и далёкие истоки военного конфликта. Когда немецкие войска вошли в Бельгию, он увидел в этом доказательство того, что война имеет смысл; Легион же он избрал только потому, что туда оказалось легко вступить. От войны он ожидал сражений, но обнаружил, что миллионы людей, от которых ничего не зависит, бездействуют среди оглушительного грохота. Он долго вынашивал намерение оставить армию, и оно превратилось в твёрдую решимость в тот день, когда были розданы новые орудия для очистки траншей. Раньше легионеры получали короткие кинжалы, которые всё-таки походили на военное оружие; в этот же день им выдали ножи с рукоятками коричневого цвета, с широким лезвием, которые омерзительно и ужасно напоминали кухонный инвентарь…
Не знаю, как ему удалось бежать из армии и достигнуть Швейцарии; но на этот раз он действовал с величайшей осторожностью, а потому и было объявлено, что он пропал без вести (вот почему я с удивлением смотрю на строки о дезертирстве в английском донесении. Впрочем, сейчас у него уже нет никаких причин делать из этого тайну…).
Растратил своё состояние в различных финансовых спекуляциях.
Он всегда был игроком.
Благодаря знанию иностранных языков становится руководителем издательства пацифистской литературы в Цюрихе. Вступает там в сношения с русскими революционерами.
Сын швейцарца и русской, он знает немецкий, французский, русский и английский, которые выучил в колледже. Он был руководителем не издательства, а секции переводов в фирме, которая в принципе выпускала не только пацифистскую литературу.
Как верно говорится в полицейском донесении, ему представился случай сойтись с молодыми людьми из большевистского кружка. Он быстро понял, что на сей раз имеет дело не с проповедниками, а с практиками революционной борьбы. Войти в кружок было нелегко, и только ещё не изгладившаяся в этой среде память о его процессе помогла ему вступить туда достойно. Но поскольку он не участвовал ни в каких мероприятиях (он не хотел быть в партии, ибо знал, что не сможет подчиняться дисциплине, и не верил, что революция близка), то с членами кружка у него сложились только приятельские отношения. Молодые люди интересовали его больше, нежели вожди, которых он знал только по их речам — речи эти произносились тоном дружеской беседы, в маленьких прокуренных кафе, перед двумя десятками товарищей, уткнувшихся в свои тарелки; только выражение лиц свидетельствовало об их внимании. Ленина он никогда не видел. Большевики привлекали его своей практической хваткой и готовностью к восстанию, однако их начетничество и особенно догматизм его раздражали. По правде говоря, он был из тех, в ком революционный дух рождается только при наступлении революции, из тех, для кого революция есть прежде всего состояние вещей.
Он был ошеломлён, когда началась русская революция. Один за другим его друзья уезжали из Цюриха, обещая, что найдут возможность и для его приезда в Россию. Он полагал, что ему по справедливости необходимо отправиться туда, и каждый раз, провожая кого-либо из уезжающих друзей, он не испытывал зависти, но чувствовал себя так, будто его обокрали.
Он жаждал поехать в Россию с самого начала революции; стал писать письма, но у партийных вождей было много дел поважнее, нежели отвечать на приветы из Швейцарии и призывать к себе дилетантов. Он впал в тихое печальное бешенство, он страдал. Мне он писал: «Знает Господь, сколько я видел людей, охваченных страстью; людей, преклоняющихся перед идеей; людей, столь привязанных к своим детям, своим деньгам, своим любовницам и даже своим надеждам, как можно любить только самого себя; людей, отравленных страстью, преследуемых ею, забывающих всё, защищающих объект своей привязанности или бегущих за ним! Если бы я сказал, что мне нужен миллион, меня приняли бы за человека завистливого; сто миллионов — решили бы, что я строю химеры, но что я сильная личность; когда же я говорю, что готов бросить свою юную жизнь на карту, то у всех такой вид, как будто я никчемный мечтатель. Поверь мне, что в тот единственный день я сыграю так, как может играть в Монте-Карло неудачливый игрок, готовый покончить с собой после проигрыша. Если бы я умел плутовать, то плутовал бы. Быть влюбленным и не замечать, что женщине твои признания безразличны, — это не редкость, в этой области можно ошибаться сколько угодно. Но невозможно ошибиться там, где на карту ставится жизнь. Всем кажется, что это уж слишком просто и что было бы гораздо разумнее заниматься обычными делами, надеяться или мечтать, нежели твёрдо распорядиться своей судьбой… Но я сумею добиться своего — только бы мне удалось получить возможность пробраться туда, возможность, которую я так глупо упустил!»
В конце 1918 года направлен в Кантон Интернационалом.
Идиот. Когда-то, ещё в лицее, он знавал одного из моих товарищей, Ламбера. Тот был гораздо старше нас; его родители, чиновники французской администрации, дружили с моими родителями, торговцами в Хайфоне. Ламбера, как почти всех европейских детей в этом городе, вырастила кантонская кормилица, от которой он, подобно мне, научился кантонскому диалекту. В начале 1914 года он вновь приехал в Тонкин. Очень скоро ему опротивела колониальная жизнь, и он уехал в Китай, где стал одним из сотрудников Сунь Ятсена. Когда была объявлена война, в свой полк он не вернулся. Всё это время они с Пьером оживлённо переписывались, и Ламбер давно обещал ему помочь приехать в Кантон. Пьер, хотя и не очень верил этому обещанию, стал изучать китайские иероглифы, правда, без большой охоты. Однажды, это было в июне 1918 года, он получил письмо от Ламбера: «Дай знать, решился ли ты уехать из Европы. Я могу устроить тебе вызов: восемьсот долларов в месяц». Пьер ответил тут же и в конце ноября, после того как было подписано перемирие, получил ещё одно письмо, в которое был вложен чек на счёт Марсельского банка; денег было немного больше, чем требовалось на оплату дороги.
У меня тогда были кое-какие средства. Я проводил его до Марселя.
Весь день мы бродили по городу. Средиземноморский город, в котором, кажется, можно делать всё, что душе угодно; улицы, освещённые бледным зимним солнцем и усеянные синими пятнами мундиров ещё не демобилизованных солдат… Черты его лица немного изменились: война оставила свой след в особенности на его щеках, похудевших, напряжённых, прорезанных вертикальными морщинками, подчёркивающими жёсткий блеск его серых глаз, изгиб тонкого рта и глубину двух складок, идущих к подбородку.
Мы идём уже долго, разговаривая на ходу. Его обуревает только одно чувство — нетерпение. Он пытается его скрыть, но оно сквозит во всех жестах и невольно прорывается в нервном ритме его слов.
— Понимаешь ли ты теперь, что угрызения совести действительно существуют? — спрашивает он внезапно.
Я в недоумении останавливаюсь.
— Истинные угрызения совести, не такие, как в книгах или театре, стыд за самого себя — того, каким ты был в другую эпоху. Это чувство может появиться только тогда, когда совершишь какой-нибудь значительный поступок — а они не совершаются по воле случая…
— По-разному бывает.
— Нет. Если человек, который завершил уже своё становление, терзается угрызениями, то это означает, что он не сумел воспользоваться опытом…
И тут же, заметив наконец моё удивление, добавил:
— Я это говорю тебе в связи с русскими.
Мы как раз проходим мимо витрины книжного магазина, уставленной произведениями русских романистов.
— В том, что они написали, много трухи, и труха эта образуется из угрызений. У всех этих писателей один недостаток — они никого не убили. Их персонажи страдают, совершив убийство, но мир для них почти не меняется. Подчеркиваю: почти. Я уверен, что в реальности они убедились бы, что мир полностью преображается, что меняются все ориентиры, что из мира человека, «совершившего преступление», он превращается в мир того, кто убил. Я не могу поверить в истинность мира, который не изменяется — или, если хочешь, меняется недостаточно. Для убийцы не существует преступлений, а есть только убийства — конечно, если убийца способен ясно осознавать свои действия. Эта идея с далеко идущими последствиями, если понимать её немного шире…