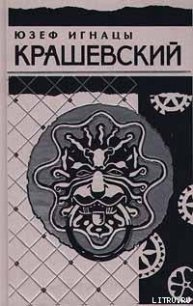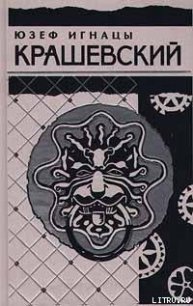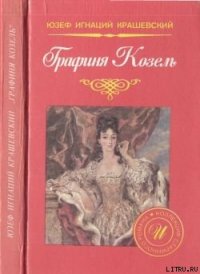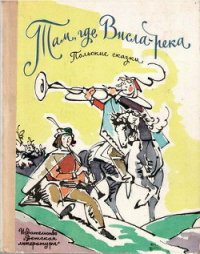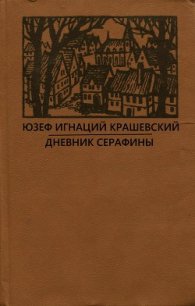Гетманские грехи - Крашевский Юзеф Игнаций (книги полностью .txt) 📗
– Я не облечен властью от Бога и никого не осуждаю, – возразил монах. – Бог может простить тебя, потому что ты из тех, которые не ведали, что творили.
– Отец мой! – снова прервал Браницкий. – Вы владеете пророческим даром, это всем известно.
– У меня нет этого дара, – отвечал монах, – но, глядя на поступки людей и оценивая их, я вижу последствия, безразлично, кто бы не совершал их.
Гетман в замешательстве умолк; суровые ответы монаха начали уже раздражать его.
– Вы хотите знать ваше будущее? – с соболезнованием спросил монах. –Бог не без причины скрыл его от вас и от других людей. Вы желаете того, что было бы для вас гибелью, и что сделало бы невыносимою вашу жизнь! Оглянитесь на прошлое и догадаетесь о будущем. Я вам ничего не могу сказать, кроме того, что ваши поступки, это зерна для будущего посева. Господь Бог не сделает для вас исключения, и если вы забросите в душу плевелы, то они не обратятся ради гетмана в пшеницу. Поступки ваши мстят за себя, подумайте об этом!
– На совести моей нет тяжких грехов, – сказал гетман.
– А вы думаете, что множество маленьких грехов менее весят, чем тяжелые?
– Я вижу, что вы сегодня не расположены говорить со мной, – сказал гетман, собираясь уходить, – может быть, другой раз я попаду в более благоприятное время.
Отец Елисей взглянул на него.
– Это обычное человеческое рассуждение! Обычное! У меня нет неприязни к вам, бедный человек, напротив, я очень вас жалею, но мое сожаление ничем не поможет.
– Я знаю, – прибавил он, – вам было бы во сто раз приятнее, если бы я говорил вам не то, что думаю, если бы я сказал вам, что Бог наградит особыми милостями основателя и покровителя стольких монастырей, если бы я прославлял ваши добродетели, курил фимиам вашему тщеславию и как ваш снисходительный исповедник в конфессионале спросил вас: "Чем изволил ясновельможный пан прогневить Бога". Я не могу угощать вас такими речами, и потому отец-настоятель прячет меня в келью, запрещает говорить проповеди с кафедры и выслушивать исповедь кающихся: я больше считаюсь с Богом, чем с ними… К чему же вы пришли сюда? Я могу напоить вас только горечью…
У Браницкого зашевелилось что-то в душе, и на глазах показались слезы.
– Я несчастлив, – сказал он, – а вы меня не жалеете.
– Ошибаетесь, – уже другим тоном возразил монах, – я вас жалею, но бессилен помочь вам. Моя жалость вам не поможет; вы скованы цепями, которые сами на себя надели. А за вами вслед идут ваши дела…
Сам Бог не может отнять у вас ваше прошлое и то, что исполнилось, обратить в несовершившееся. Вы желали от жизни наслаждений, он вам их дал; у вас были жены, наложницы, любовницы, а между тем вы уйдете из жизни без потомства, последним в своем роде, пустым колосом! У вас была власть, но она может выскользнуть из ваших рук, потому что вы легкомысленно разделили ее между людьми… Да будет милосердие Божие над тобой!
Гетман стоял с выражением страдания и испуга на лице; это пророчество совсем придавило его.
– Я не уйду из мира бездетным, – возразил он, – вы ошибаетесь, отец. – Нет, я не ошибаюсь, – сказал монах, – у вас могут быть дети по крови, но они не признают вас, а вы – их… И кто знает, не станут ли они по воле Божией врагами собственного отца…
В эту минуту гетман, видимо, вспомнил что-то, потому что вздрогнул всем телом и вдруг бросился к выходу, словно убегая от этих угроз, произнесенных с унизительным состраданием. О. Елисей сделал несколько шагов к нему, протягивая руки.
– Прости мне, дитя мое, – воскликнул он, – я напоил тебя горечью; но чего можно еще ждать от сосуда, полного желчи?
Браницкий торопливо обернулся и, схватив руку монаха, стал молча целовать ее.
– Ищи утешения в самом себе, а не во мне. Бог с тобой, Бог с тобой.
Гетман немного пришел в себя.
– Но разве чистосердечная исповедь, раскаяние в грехах и добрые дела не могут исправить прошлого?
– Они могут перетянуть чашу весов, но тяжести не снимут с них, –возразил отец Елисей. – Не думай только, что твое золото и то, что можно купить на него, будут что-нибудь весить на весах ангелов.
– Нет, только слезы, печаль о содеянных грехах, смирение и покорность…
Вдали послышался звон монастырского колокола, и отец Елисей прервал свою речь.
– Настало время молитвы, – сказал он, – для гетмана я не могу забыть Бога; иди с миром!
Говоря это, он повернулся и медленно со сложенными руками направился к распятию, даже не взглянув на стоявшего у дверей гетмана, который, несколько оправившись от первого впечатления, не спеша вышел из кельи.
В коридоре его поджидал отец Целестин; с первого же взгляда на гетмана он увидел, что разговор был не из приятных. Но настоятель и не ожидал ничего иного и, желая загладить впечатление, заметил сокрушенным тоном:
– Какая жалость, что у такого богобоязненного человека такое замешательство в мыслях! Он страшно несдержан, а иногда с амвона позволяет себе такие выражения, которые могли бы сойти за ересь, и потому-то мы должны были запретить ему проповеди. Один раз он до того увлекся, что сказал своим слушателям в костеле: если надо выбирать между домом и костелом, то лучше уж пропустить обедню, чем отложить кормление голодного. А в другой раз под видом слова Божьего проповедовал такую ересь, что мы перепугались, как бы кара Божья не постигла весь монастырь, если мы еще потерпим такие речи.
Когда ваше превосходительство пожелали видеться с отцом Елисеем, я предвидел, – прибавил настоятель, – что вы рискуете подвергнуться каким-нибудь неприятным увещаниям. Но не стоит принимать к сердцу того, что болтает желчный старик.
– Это святой человек, – коротко возразил гетман.
– Но при своей святости он тем опаснее, – подхватил отец Целестин. – Было бы лучше всего, если бы его перевели куда-нибудь, где говорят на другом языке, там он оказал бы меньше вреда, и я буду просить об этом у генерала ордена.
Браницкий не отвечал ничего и с пасмурным лицом вышел из монастыря, сопровождаемый смиренным настоятелем, который вывел его за монастырскую ограду. И хотели уже свернуть на площадь, но в это время из главных монастырских ворот стали выходить попарно доминиканцы, перед которыми несли черный крест и траурную хоругвь.
Настоятель не сказал Браницкому о том, о чем ему только что сообщили, что к монастырю приближалось бедное погребальное шествие с останками егермейстера из Борка. Впереди шел в черной одежде один только ксендз… Вдали виднелась небольшая группа провожатых, шедших за деревенской телегой с простым гробом, прикрытым покровом; в телегу была впряжена пара черных волов. Среди провожатых была одна женщина под густой черной вуалью – ее вел под руку высокий мужчина. Несколько поодаль медленно шли двое-трое приятелей. Заметив похоронное шествие, к которому торопливо вышли навстречу, чтобы присоединиться к нему, доминиканцы, гетман побледнел, и, не желая быть узнанным, не вышел на площадь, а остался около калитки –отделенный от площади толстой каменной стеной.
Настоятель, уже попрощавшийся с гетманом и собиравшийся уходить, заметил, что он остановился, и занял выжидательную позицию в нескольких шагах от него.
Между тем похоронное шествие медленно пересекло площадь и направилось к кладбищу; раздался погребальный звон, в маленьком местечке жители, выбегая из ворот, присоединялись к процессии.
Браницкий, не двигаясь с места, печальным и внимательным взглядом следил за процессией, пока она не скрылась за оградой кладбища.
Он ни на минуту не отрывался от этого печального зрелища, которое произвело на него необычайно сильное впечатление: может быть, потому что он еще сохранил в памяти странные и суровые слова отца Елисея.
В костеле еще звонили, и на кладбище развивались хоругви, когда Браницкий, уже не боясь, что его увидят, поспешил перейти пустую площадь и направился к своему дворцу.
Обеспокоенный его долгим отсутствием полковник Венгерский уже поджидал его. Зная пристрастие гетмана к веселой и легкомысленной болтовне, которою его обычно развлекали, он еще издали приветствовал его и сказал с улыбкой: