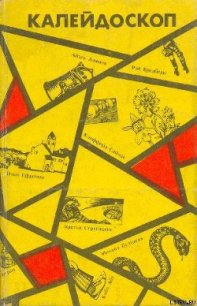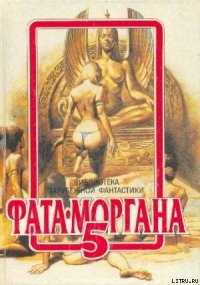Блюз Сонни. Повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и музыкантах - Факторович Евгений Пинхусович
— Что ж вы хотите, донья Балтасара? — говорила одна из них. — Чуяло мое сердце!.. Мне объясняли, а я все не верила. Человек этот просто не может так играть. Я сама его сотни раз слышала в церкви святого Варфоломея — хотя и оттуда его выгнал сеньор священник — и только уши затыкала… Да посмотрите на его лицо, это же зеркало души… Как сейчас помню нашего бедняжку маэстро Переса, когда в Рождественскую ночь он сходил с хоров, поразив нас своей игрою… Какая добрая улыбка, какой румянец! Старый был, но с виду — истинный ангел… А этот ковыляет, спешит, словно за ним собаки гонятся, и пахнет от него, как от трупа. Да что говорить… Поверьте, донья Балтасара, поверьте — чую я, тут что-то нечисто…
Беседуя так, они завернули за угол и скрылись в переулке.
Навряд ли нужно сообщать читателю, кто была одна из них.
Прошел еще один год. Настоятельница монастыря и дочь маэстро Переса тихо беседовали на хорах, в полумраке. Надтреснутый колокол созывал паству, и время от времени кто-нибудь проходил по притвору, теперь молчаливому и пустынному, окунал пальцы в святую воду, а потом находил себе место в уголке, где несколько человек спокойно ждали мессы.
— Вы сами видите, — говорила настоятельница, — что страх ваш — ребяческий страх. Здесь никого нет, весь город устремился в собор. Играйте, играйте смело, мы тут почти одни… Но… вы молчите, вздыхаете. Что с вами?
— Мне страшно, — воскликнула девушка с истинным чувством.
— Страшно! Почему же?
— Не знаю… я боюсь чего-то… Смотрите, вчера вы велели мне играть, я возгордилась, хотела настроить орган, чтобы удивить вас сегодня… Пошла на хоры… одна… открыла дверцу… На соборных часах пробило… не знаю сколько… но звон был печальный и долгий… он продолжался, пока я стояла наверху, и показался мне бесконечным.
Храм был пустым и темным. Там, в глубине, словно звезда, затерявшаяся на ночном небе, мерцал, угасая, светильник у главного алтаря. В его едва заметных отблесках, лишь усугублявших ужас мрака, я увидела… да, матушка, увидела человека. Он сидел у органа спиной ко мне, пробегал одной рукой по клавишам, другою же касался регистров… и орган звучал на удивление странно. Каждая нота казалась подавленным рыданием, а трубы трепетали, воспроизводя глухую, едва различимую, но совершенно верную мелодию.
Часы на башне все били; человек играл. Я слышала, как он дышит.
Кровь моя застыла от страха, руки леденели, пылали виски… Я хотела крикнуть, хотела — и не могла. Человек обернулся и посмотрел на меня… нет, не то, он был слеп… И я узнала отца!
— Ах, сестра, это нечистый смущает ваше воображение… Прочитайте «Отче наш» и «Аве Мария» да помолитесь архангелу Михаилу, месса сейчас начнется, прихожане ждут… Отец ваш в раю и, вместо того чтобы пугать вас, поможет своему дитяти в столь важном и благочестивом деле.
Настоятельница опустилась в кресло посередине хоров, а дочь маэстро Переса дрожащей рукой открыла дверцу и села за орган. Месса началась.
Она началась, и ничего не случилось до того мгновения, когда священник стал поднимать облатку. Тогда зазвучал орган, и вместе с аккордом раздался крик молодой послушницы. Настоятельница, монахини и кто-то из прихожан кинулись к ней.
— Глядите! Глядите! — кричала она, устремив испуганный взор на скамеечку, с которой вскочила, судорожно схватившись за перильца.
Все поглядели туда. Там никого не было, но орган не затихал, и звук его был подобен пению ангелов.
— Ну, говорила я вам, донья Балтасара, говорила я вам? Что-то тут нечисто! Как, вы не были на Рождественской мессе? Но уж наверное знаете, что случилось. Вся Севилья только об этом и толкует… Сеньор архиепископ вне себя… Да как же иначе? Он не пошел в церковь святой Агнессы, не видел чуда… и ради чего? Ради того, чтобы слушать кошачий концерт. Люди говорят, иначе не назовешь то, что устроил косой в самом соборе. Значит, в прошлом году играл не этот обманщик, играла душа маэстро Переса.
Камило Хосе Села
(Испания)
ОРКЕСТР — ПЕРВЫЙ СОРТ!
Они выправили бумаги, пошли к нотариусу, все уладили и принялись искать подходящую дыру. Нашли, заплатили, перевезли со склада первую партию товара и открыли лавку. На открытии пили вино, ели пышки, а духовой оркестр играл пасодобль, «Осаду Сарагоссы», «Волонтеров», «Свадьбу Луиса Алонсо», «Поцелуй». И дело пошло!
Хесус Халансе Терсага играет на корнете. Верекундо Мул Баласоте дует в саксофон. Трофимо Гарвин Пачеко бьет и в барабан, и в литавры.
— Ну, поесть нам не придется, зато музыку послушаем. Ух, и потанцуем! Оркестр у них будет первый сорт. Это уж как пить дать.
Одноглазый Хесус Халансе Терсага — родом из Мадридехос, вот его и прозвали (ах, люди, люди!) «Кривым из Мадридехос». У Верекундо Мула Баласоте специального прозвища нет, его зовут лаконично: «Мул». Трофимо Гарвина Пачеко зовут «Французом», потому что он мычит.
— А «Катьюшу» можно?
— Нет, сеньора, «Катьюшу» мы не умеем, она очень трудная. Кривой из Мадридехос, как явствует из его имени, не только одноглаз, но и родился в Мадридехос, провинция Толедо. Глаз он потерял у Харамы, во время войны.
— А как одним глазом, все видно?
— Обязательно, сеньора. В два раза больше, чем двумя.
Мул хромает. В юности он упал с крыши вагона (держись, поворот!) и ему отрезало ногу, так что теперь нога у него деревянная, из ясеня, как те палки, на которых пастухи от одиночества вырезают затейливый узор.
— Болит?
— Нет, сеньора, разве что весной, соки бродят, почки распуститься хотят. А потом — ничего, весь год не беспокоит.
Француз — немой. Он отдавил язык крышкой чемодана и теперь, в сущности, у него только пол-языка.
— Скажите, можно ребенку ударить в ваши тарелочки?
Мул — он побойчей прочих — не остается в долгу.
— Вот что, сеньора, вы лучше к нему не лезьте. Не видите, что ли, — немой.
Немой француз улыбается и протягивает мальчику литавры. Мать, если она в духе, дает ему реал.
— Пошли, пошли, сыночек, дядя в мешок заберет.
Хесус Халанса Терсага, Верекундо Мул Баласоте и Трофимо Гарвин Пачеко — очень веселый оркестр; они умеют скрывать свое горе. Кривой, Мул и Француз играют на бедных крестинах, на бедных свадьбах, перед домами бедных, которые, заслышав их музыку, широко раскрывают двери, словно им впервые открылась надежда. Кривой, Мул и Француз цены не назначают — едят, что дадут, и в карман кладут, что дадут; а дают им всегда.
— «Катьюшу» умеете?
— Нет, сеньора. Тут ваша знакомая уже спрашивала. «Катьюшу» мы не знаем, она очень трудная. Хотите марш «Петушок»? А хабанеру из «Сахарного тростника»?
Хесус Халанса Терсага, Верекундо Мул Баласоте и Трофимо Гарвин Пачеко всегда рады доставить ближнему радость, которая — то лучше, то хуже — помогает ему тянуть печальную повозку жизни; а повозка эта — пустая, и потому так легка она для веселых и добрых бедных, играющих бедную музыку на бедных праздниках.
Карло Сгорлон
(Италия)
РЫЖАЯ ЕЖКА
Стоило матери увидеть, что я торопливо надеваю стеганый берет и кожаную куртку, как она настороженно спрашивала:
— Ты куда?
— Гулять. Куда же еще? — отзывался я, сбегая вниз по каменистому склону.
— Небось к Оресте?
— Ну и что же? — бросал я, не оборачиваясь.
— Ничего, ничего… Только не возвращайся слишком поздно!
Голос ее доносился уже издалека. Мне становилось весело, я смеялся. Ветки орешника преграждали мне путь, я обламывал их на ходу. Иногда я оборачивался взглянуть на мать — ее неподвижная фигура все еще маячила в дверях: серое пятно — волосы, черное — платье. Но это случалось редко, обычно всеми своими помыслами я был уже там, у Оресте. Я перепрыгивал ямы, кустарники, хватался за длинные лапы елей, раскачивался и перемахивал на ту сторону оврага.