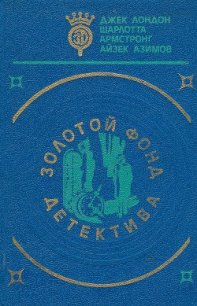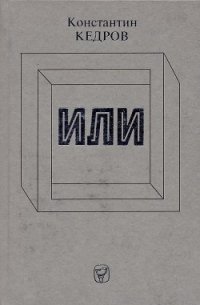Скифы и сфинксы. Журнал ПОэтов № 6-7 (30) 2011 г. - Кедров Константин Александрович "brenko" (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
Воспоминания о моих самых ранних годах связаны с этой комнатой и хранящимися в ней томами, о которых более я упоминать не стану. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Впрочем, неверно говорить, что меня до тех пор не существовало; утверждать, что душа человека не имеет предыдущего существования – пустые слова. Возражаете? Давайте не будем о том спорить. Будучи убежден сам, я не испытываю потребности убеждать. И все же память моя хранит воспоминания о каких-то тонких неземных формах; о взорах, преисполненных разума и духа; о звуках, мелодичных и в то же время грустных, – воспоминания, которые нельзя исключить, воспоминания, подобные неуловимой тени, такие же неосязаемые, непостоянные, зыбкие; сходные с тенью еще и тем, что мне не избавиться от них, доколе разум мой будет озарять их своим сиянием.
В той комнате появился на свет я. Итак, пробудившись после долгой ночи того, что казалось, но не было небытием, оказавшись в самом сердце полного чудес волшебного мира, во дворце воображения, в неизведанных просторах монастырской мысли и учености, стоит ли дивиться тому, что я посмотрел вокруг удивленным и горящим взором, что детство свое я провел за книгами, а отрочество посвятил раздумьям? Но что удивительно, по прошествии стольких лет, в зените зрелости, все еще пребывая в отцовских стенах, что на самом деле поразительно, так это то, какое безволие сковало родники моей жизни; поразительно, какая полнейшая перемена произошла в природе даже самых обыденных моих помыслов. Реальности мира стали представляться мне порождением фантазии, всего лишь видениями, не более; но вот дивные помыслы мира грез превратились, нет, не в смысл моего каждодневного существования, они полностью и всецело заменили самое это существование.
Береника была моей кузиной, и в родовом замке мы росли вместе. Но росли по-разному: я – нездоровым, хмурым, она – живой, изящной, пышущей энергией; ей бы все резвиться среди лугов на склонах холмов, мне – корпеть над книгами в тишине; я – живя своим сердцем, телом и душой отданный самым напряженным и болезненным размышлениям, она – беспечно идя по жизни, не задумываясь о тенях на пути или о молчаливом полете вранокрылого времени. Береника! К ее имени взываю я… Береника!.. И из серых руин памяти тысячи беспокойных воспоминаний восстают, потревоженные этим звуком. Ах, как же ясно образ ее теперь стоит у меня перед очами, так же ясно, как в дни ее беспечной юности и беззаботного счастья. О, прекраснейшая из красавиц, пленяющая диковинной красотой! О, сильфида меж зарослей арнхеймских! О, плещущаяся средь волн наяда! А после… а после – тайна и ужас, то, о чем рассказывать негоже. Болезнь, смертельная болезнь горячим самумом обрушилась на нее; и, глядя на нее, я не мог не заметить, что дух перемены витал над ней, пронизывая ее разум, ее привычки, ее характер, самым незаметным и жутким манером тревожа даже самое ее суть! Увы! Разрушитель явился и сгинул, а жертва… Где она? Я не узнавал ее… во всяком случае, я более не узнавал в ней Беренику.
Среди многочисленных недугов, принесенных этою хворью, смертельным и тягчайшим, вызвавшим столь жуткую душевную и физическую перемену в моей кузине, самым удручающим и стойким по природе своей была эпилепсия, которая не раз заканчивалась трансом, трансом, неотличимым от смерти, от которого пробуждалась она почти всегда с поразительной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь – ибо мне было сказано, что никаким иным словом называть мое состояние не следует – моя собственная болезнь стремительно поглощала меня и наконец приобрела характер мономании, необычной и исключительной формы, ежечасно, ежесекундно укрепляющейся и набирающей силу и со временем обретшей надо мной непонятную власть. Мономания эта – раз уж я должен так ее называть – заключалась в болезненной раздражительности тех качеств разума, которые, как полагает метафизическая наука, отвечают за внимание. Более чем вероятно, что изъясняюсь я непонятно, но боюсь, что просто не существует того способа, которым можно было бы вложить в разум обычного читателя должное представление о той нервной «напряженности интереса», с которой я погружался в созерцание и «обдумывание» (если не воспринимать этот термин технически) даже самых будничных, самых наиобычнейших предметов во Вселенной.
Размышлять долгими нескончаемыми часами, глядя на какую-нибудь легкомысленную картинку, нарисованную на полях книги, или рассматривая шрифт, которым набран текст; сосредоточиться на затейливых тенях, падающих наискось на гобелен или на пол, и просидеть так большую часть летнего дня; завороженно наблюдать целую ночь за ровным огнем какой-нибудь лампы или за тлеющими углями в камине; посвятить несколько дней кряду обдумыванию аромата цветка; монотонно твердить одно и то же слово, какое-нибудь самое обычное, повседневное слово, покуда звук его от многократного повторения полностью не утрачивает смысл; потерять всяческое ощущение движения или вообще физического существования, предавшись полнейшей телесной расслабленности, длительной и настойчивой, – вот лишь некоторые из самых частых и наименее безобидных причуд, вызванных состоянием умственных процессов, не то чтобы совсем утративших какое-либо подобие четкости, но, несомненно, не поддающихся анализу либо объяснению.
И все же я не хочу быть понятым неправильно. Столь непомерное, искреннее и нездоровое внимание, вызываемое подобными по самой природе своей малозначимыми объектами, ни в коем случае не стоит приравнивать к той предрасположенности к созерцательности, которая свойственна всем людям, и в особенности проявляющейся у личностей, наделенных слишком живым воображением. Это даже не было, как может поначалу показаться, каким-то необычным состоянием, или даже просто преувеличенным проявлением подобной склонности – это было совершенно определенное и ни на что не похожее состояние. Если в первом случае мечтатель, или человек увлеченный, заинтересовавшись каким-либо объектом, обычно не малозначимым, незаметно для себя теряет из виду сей объект в бесконечном множестве порожденных им разнообразных идей и умозаключений, пока на излете этой мысли, часто весьма возвышенной, он вдруг не обнаруживает, что incitamentum [2], или первопричина его задумчивости, исчезла или полностью забыта. В случае со мной первопричина была всегда малозначимой, хотя мое расстроенное воображение неизменно наделяло ее какой-то противоестественной и фантастической важностью. Если моя мысль и делала какие-то шаги в сторону, то их было немного, и всегда она упрямо возвращалась к тому, что являлось отправной точкой. Размышления никогда не приносили мне удовольствия, и если что-то выводило меня из задумчивости, первопричина этого, если уже не находилась перед глазами, вызывала тот еще больший, на этот раз прямо-таки сверхъестественный интерес, который и был основным признаком моего недуга. Одним словом, у меня в первую очередь в ход шли те силы разума, которые отвечают, как я уже говорил, за внимание, а у обычного мечтателя – за мышление.
Надо сказать, что книги, увлекавшие меня в ту пору, если сами и не являлись причиной моего расстройства, своею фантастичностью, своим разнообразием во многом отражали признаки этого расстройства. Среди прочих я хорошо помню трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона [3] «De Amplitudine Beati Regni Dei» [4], великий труд Блаженного Августина [5] «О граде Божием» и «De Carne Christi» [6] Тертуллиана [7], парадоксальные слова из которой «Mortuus est Dei filius; credible est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est» [8] на многие недели погрузили меня в напряженные и бесплодные изыскания.