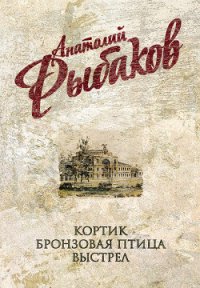Победивший платит (СИ) - "Жоржетта" (читать книги без регистрации полные .TXT) 📗
Кажется, он не понимает, как это вообще возможно, принять обязательные правила без сопротивления, просто потому, что жизнь без них превращается в хаос. Разговор о деньгах иссяк, сменившись обсуждением перспектив его болезни: я настаиваю на клинике, он огрызается, и чем дальше, тем громче, шипит обвинения во всем и ни в чем, адресованные, как я понимаю, не столько мне лично, сколько всей жизни вообще, и неуважительно требует оставить его в покое.
- Я не могу этого сделать, - пытаюсь объяснить почти по слогам. Он же не умственно отсталый, вспомнить хоть вчерашний инцидент, едва не стоивший мне головы: несмотря на ярость, меня он слушал, слышал и послушался в итоге. - И заканчивать твое лечение кремацией я тоже не намерен, что бы ты там ни думал. Понимаешь? Я обязан заботиться о твоем благе.
- У тебя получается хреново и неэффективно.
А вот на это мне нечего ответить, разве что: я никогда не готовился к тому, что в мое спланированное, размеренное существование ворвется бешеный барраярец, и сейчас приходится действовать экспромтом, опытным путем отыскивая нужный путь.
- Ты сам над собой издеваешься так, как я бы не смог, даже если бы и хотел, - объясняю очевидное. - Я же просто хочу наладить нормальное сосуществование, раз уж оно неизбежно. Впрочем, ты больше заинтересован в продолжении боев, чем в организации собственного комфорта. Это что, такой способ заново повоевать с Цетагандой? Вся наша раса в моем лице?
- Если бы я воевал, ты бы вчера не ушел, - равнодушно замечает он, и на короткую кошмарную секунду меня накрывает отвратительным страхом, тошнотворным и прилипчивым.
Вчера не было времени бояться, все случилось в один момент: твердая грубая деревяшка у меня за шеей, неровный оскал перед глазами, я почему-то сразу знал, что у него не хватит духу довести дело до конца, и он знал, что я знаю. Нечего было бояться.
Сейчас, возможно, усталое равнодушие в том, как он констатирует общеизвестный факт, пугает до тошноты. Словно человек напротив меня внезапно превратился в боевого андроида, воспринимающего биение жизни как цель.
Не в этом ли модусе он перенастраивал Хисокин катер? Значит, мой брат перестал быть полезен и стал помехой, вот и все?
- Я оценил твое миролюбие, - и воздам по заслугам, обещаю, - но почему ты передумал?
Снова это чудовищное равнодушие, в то время как разговор идет о судьбах живых. Я ведь тоже мог перейти в разряд жертв.
- Я убил достаточно цетов, - отвечает он, - ты бы не изменил счета. А может, проблема была в том, что для такого поступка особой смелости не требовалось.
Это нечто новое и неожиданное. Значит, он все же не машина для убийств, выжидающая удобного случая - или само понятие «удобного случая» для него иное.
Не стоило бы уделять столько внимания низшему; достаточным средством была бы надежная изоляция, а не разговоры по душам, но я слишком настроен на то, чтобы выяснить его сущность и мотивы; без этого расследование превратится в травлю и оскорбит домашний очаг. Боги такого не прощают.
- Завтра опять заведем эту сказку про белого бычка, - недовольно ворчит он после того, как я, оставив ему бутылочку адсорбента, желаю доброй ночи. Я хотел бы, чтобы наутро у него была ясная голова, и покончить с этой историей поскорей, но при чем здесь парнокопытные?
- Спор без конца и края, - объясняет он в ответ на мое недоумение. Какие у них чудовищные идиомы; впрочем, стоит ли ожидать изящества от тех, кто добровольно готов прожить в грязи, лишь бы своей? - Кто станет распоряжаться моей жизнью. Одно не понимаю - тебе она на кой?
Всю жизнь мечтал побыть садистом, - так и рвется с языка, срывается в итоге. Боги милостивы, иронию он понимает.
- Послушай, - подумав, высказывает он догадку, - может быть, ты просто считаешь меня того... умственно отсталым? Ну там, типа, раз не умею носить парадную накидку, значит совсем пропащий, все равно что ложку в руках не в состоянии держать?
Примерно так, собственно говоря, и есть. Мне стоило бы считать его несмышленым младенцем, и так бы и было, будь он кем угодно другим, только не барраярцем.
- И откуда тебе знать, в чем мое благополучие? - с любопытством интересуется предмет моей неусыпной заботы.
Это совсем просто. И ему было бы просто, будь он приучен заглядывать в зеркало не раз в сезон.
- Когда я вижу перед собой человека, с трудом держащегося на ногах из-за отравления этанолом, - отвечаю, пристально изучая взлохмаченного юнца, неловко пытающегося принять достойную позу, - или человека, для которого возможность настоять на своем дороже собственного хребта, я начинаю предполагать, что с этим человеком что-то очень не в порядке.
Еще взгляд - с головы до ног. Как ни удивительно, при должном уходе он мог бы производить впечатление если не миловидности, то хотя бы благополучия, о котором и речь.
- Да иди ты! - вскидывается он так, что даже оскорбиться не выходит, настолько ребячески выглядит это возмущение. - Я и выпил-то граммов сто, не больше... а что трясло, так это, может, от страха?
А он на удивление ехиден. Должно быть, проверяет границы моего терпения.
- Я не употребляю тяжелых стимуляторов, - объясняю с максимальной степенью занудства; кто хоть раз имел дело с подростками, быстро обучается средствам борьбы с их провокациями, - мог и ошибиться. А ты, если непременно хочешь как следует мне насолить, выздоровей для начала. И отъешься, от тебя кожа да кости остались.
- "Ребенок румян, здоров и регулярно прибавляет в весе по двести граммов", - слышится в ответ. - Это критерий благополучия? А ты - зануда, знаешь?
Еще бы я не знал.
- Мне по-другому нельзя, - без преувеличения отвечаю. Действительно нельзя. А в гримасе, которой он награждает меня напоследок, нет ожидаемого облегчения, и случай слишком хорош, чтобы его упускать.
- Если хочешь, можешь разделить со мной чаепитие, - ожидая отказа, предлагаю я.
Как ни удивительно, а он соглашается и совершенно всерьез полагает, что я примусь таскать подносы с чашками собственному подопечному. Приходится разочаровать юнца; впрочем, особенного терапевтического действия мои слова не оказывают - он же читает мне короткую мораль о том, как смирение очищает душу.
- Лучше я не стану задумываться о том, что делаю, - добавляет, - а то у меня точно крыша поедет. Иду ночью в гости к цету распивать с ним чаи...
Барраярец ничего не смыслит ни в гармонии, ни в сортах, «драконий жемчуг» для его слуха предсказуемо оказывается пустым звуком вроде ветра, поднявшегося к ночи, тонкостенная чайная пара в грубых пальцах выглядит неестественно уязвимо, того и гляди, лопнет.
- …способ управления стихиями, - объясняю я. Сладковатый настой исходит паром, дразнит ноздри тонким цветочным запахом, - и способ сворачивания чайного листа.
- Все ясно, - ехидствует он. - Ты угощаешь меня тем, что предварительно выплюнула большая змеюка.
Он совершенно безнадежен и кичится этим настолько явно, что даже чтение нотаций ничего не исправит. Благородный напиток, врачующий связи между душой и телом, в его восприятии ценен не более чем сенной настой, и куда больший энтузиазм вызывают сладости, полагающиеся к чаю.
- Ты понимаешь, что я лет двадцать жизни без колебаний бы отдал, только бы не сидеть здесь? - внезапно спрашивает он, разбивая молчание. По-видимому, чай действует на него подобно стимулятору, поощряя к беседе.
- Я все думаю, - вдохновленный отсутствием комментариев, продолжает он, - а почему только двадцать? Может, я потому и не хочу твоего чертова благополучия, что у меня тогда не останется оправданий?
Это следует понимать как завуалированную просьбу о прощении? Нет, маловероятно, чтобы двух дней нормальной жизни хватило бы такому созданию, чтобы оценить свой поступок по достоинству. И, значит, он говорит о другом.