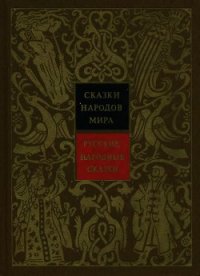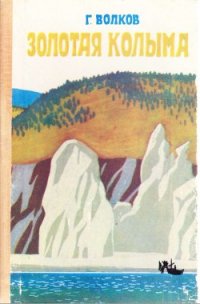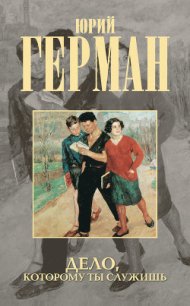Вексель Билибина - Волков Герман Григорьевич (книги полностью .TXT) 📗
— А вот скажите, пожалуйста, почему почти все наши геологи после окончания института, да и позднее, стремятся работать в Крыму, на Кавказе или на Урале? Почему не едут в Сибирь?
— В Крыму условия весьма привлекают, а в Сибирь не всякий отважится…
— А я бы поехал туда, в Сибирь, новизну искать. Там в мерзлоте нашли целого мамонта и, наверное, есть грандиозные скопления и других реликтов!
— Весьма возможно. И я не прочь поближе познакомиться с тамошними горами.
Цареградский хотел быть палеонтологом, Билибин — петрографом. Они не были похожи: Билибин — огненно-рыжий, Цареградский — как цыган, смуглый, черный; у Билибина выдавался массивный, круглый подбородок, у Цареградского подбородок был острый. И глядели они по-разному: светлоглазый Билибин — открыто и прямо, у Цареградского карие глаза смотрели как-то из-под бровей, прицеливаясь.
Каждый раз при встречах Билибин и Цареградский возвращались к своим мечтам о будущем, рассказывали друг другу все, что узнавали о далекой Сибири, Якутии, Камчатке, Чукотке… Как-то Билибин предложил:
— А что, если при геологическом кружке организовать сибирскую секцию?
— Будем собирать материалы — печатные, рукописные!
— Пригласим тех, кто хоть кое-что знает о сибирской землице: геологов, врачей, политкаторжан!
— Нам надо знать о Сибири все!
— Будем делать рефераты…
— Даешь Сибсек, Стамбулов! — провозгласил Билибин, переиначив фамилию Цареградского.
Так родилась при геологическом кружке Горного института Сибирская секция. Она вскоре выросла в довольно большую группу единомышленников. И пока Билибин был студентом, его бессменно выбирали председателем, а Цареградского — заместителем.
Сибсековцы копались в книгах, в архивах, в геофонде, вылавливали все о Сибири. Узнали как-то, что в университете учится молодая чета из Енисейского края, пригласили ее. Когда же в секцию вошел Дима Вознесенский, то пригласили и его отца, старого геолога, по делу «Народной Воли» отбывавшего ссылку на Вилюе.
Дипломная работа у Цареградского к тому времени была готова, предметы оставалось сдать легкие. Все это он мог сделать и раньше, но тянул — жаль было расставаться с институтом, да и семья обременяла: приходилось не только учиться, но и подрабатывать. Теперь же, когда позвали на Колыму, он решил немедленно ликвидировать все свои долги.
— Поздно, — сказали в ректорате. — Идите к председателю комиссии профессору Болдыреву, может, сделает исключение…
Педантичный Болдырев не допускал никаких отклонений от институтских правил. Но Цареградского он знал хорошо, видел в нем большие способности, отмечал повышенный интерес к минералогии и кристаллографии, дважды приглашал к себе ассистентом. Цареградский каждый раз уклончиво отказывался, потому что увлекался палеонтологическими занятиями у профессора Рябинина, но сказать об этом Болдыреву прямо не мог. Однажды Болдырев зашел в кабинет Рябинина и застал там Цареградского за изучением костей мезозавров.
— Вот теперь мне понятно, почему вы отказывались…
И теперь идти к Болдыреву было как-то неудобно, словно обманывал его. Но все же пришел, изложил свою просьбу.
— На Колыму? В качестве палеонтолога? Заманчиво, очень заманчиво! Ну что ж, сделаю для вас исключение, если сумеете за оставшийся до защиты короткий срок собрать все необходимые заключения, рецензии по своей дипломной работе. Попросите оппонентов, членов комиссии держать вашу работу не более одного-двух дней, иначе не уложитесь.
Цареградский так и сделал и успешно защитил диплом. Пришел к Билибину.
Юрий Александрович просиял:
— Будем работать вместе! Едем в твою вотчину, Стамбулов!
Вскоре представился Билибину и направленный Геолкомом астроном-геодезист:
— Митя.
— Кто?
— Митя Казанли.
Билибин окинул с высоты своего роста щупленького паренька, пухлогубого, с бирюзово-небесными глазами и нелестно подумал о нем: романтик, стремится к звездам. И не ошибся.
Младший Казанли с детства стремился к звездам. Однажды Митю и его сестру Ирину водили в Петровский парк — смотреть на полет воздушного шара. А ночью в доме Казанли резко запахло горелым целлулоидом. Митя в длинной ночной рубашке скакал по комнатам с ярко пылающей куклой, допрыгал до умывальника и бросил ее в таз с водой. Родители кинулись к нему, заахали, заохали, увидев обожженные руки. Митя не плакал, он лишь недоумевал — почему не удалось воздухоплавание, почему кукла не взлетела и не подняла его.
Десяти лет, в Ессентуках, где лечился отец и жила вся семья, Митя убежал из дома и попытался совершить восхождение на гору Машук, но не добрался. Его нашли, вернули. Отец журил, а Митя невинно спрашивал: «Папа, а там небо близко?» В альбом сестры он заносил лермонтовские стихи о воздушном океане…
Отец Мити умер накануне революции. В тот год Митя бегал за матросами, опоясанными пулеметными лентами, громил писчебумажного фабриканта и с его фабрики притащил сестре кипу ярких реквизированных ярлыков.
Ничего этого о Мите Билибин не знал, но, определив на глаз, что перед ним звездочет-романтик, не без ехидства спросил:
— Стихи пишете?
— А что? — настырно, как штыком, отпарировал Митя.
— Ничего. Пригодилось бы при составлении отчета.
— Нет, не пишу. На скрипке играю. У меня отец был музыкантом. В энциклопедии о нем читали? А я, как известно, астроном-геодезист. Буду работать в вашей экспедиции.
— А он, ваш отец-то, музыкант, о котором в энциклопедиях пишут, тоже собирается в нашу экспедицию?
— Нет. Он умер. Поеду я.
Митя шутку не понял. Да и шутка-то оказалась неуместной. Но Билибин, раз уже завелся, не мог удержаться от подковырок. Предполагая, что паренек в армии еще не служил, утвердительно, но с усмешкой сказал:
— В армии, разумеется, служили…
— Служил. Четырнадцати лет вступил добровольцем в РККА и уговорил отправиться на фронт свою маму. Вместе служили при штабе Седьмой армии: я — связистом-самокатчиком, мама — писарем-переводчиком.
— Вот как! А я с отцом служил в Шестнадцатой, и мне приходилось бывать и писарем, и учетчиком…
— Во время срочной эвакуации под натиском Юденича мама простудилась, заболела чахоткой и в двадцать третьем умерла. После приказа о демобилизации из армии женщин и несовершеннолетних меня перевели в трудармию на Гатчинский хлебозавод…
Билибин хотел спросить, а что же он такой тощий, но воздержался.
— Там работал и учился. Потом поступил в университет, на астрономо-геодезическое отделение физико-математического факультета.
Билибин видел в астрономе и что-то наивное, и серьезное, и настойчивое — находил что-то похожее на себя. И уже совсем серьезно спросил:
— Геодезистом работали? Астропункты устанавливали?
— Работал. Устанавливал. В Криворожье. В Карелии.
— Но Колыма — не Криворожье и даже не Карелия…
— Знаю. Край суровый, неисследованный, потому и тороплюсь на Колыму.
— Ну что ж, Дмитрий Николаевич Казанли, собирайтесь.
На другой день Митя сдавал последний экзамен. Он отвечал по теории относительности, говорил о координатах времен и пространств. Экзаменатор, старик-профессор, увлеченно слушал его и сам, глуховатый, гудел ему на ухо:
— Хорошо, мой друг, хорошо! Несколько лет углубленной работы, и — обеспечена кафедра!
Мите еще осталось получить диплом, но это он считал формальностью. И побежал по магазинам закупать топографические сумки, рюкзаки, самосветящиеся компасы, самопишущие ручки, книги по геодезии, астрономии и другим наукам.
Своей квартиры Митя не имел. Все купленное он приносил в комнату сестры, завалил все стулья, диван, стол, и комнатушка в шестнадцать квадратных метров превратилась в склад Колымской экспедиции.
Митя привел сюда Цареградского, представив Ирине:
— Мой друг Валентин. Едем вместе.
Митя и Валентин притащили с собой какую-то аппаратуру, приборы, меховую одежду, валенки, большие ящики для укладки вещей. К сборам они привлекли и ее: попросили сшить для колымского золота сто маленьких, как кисеты, мешочков.