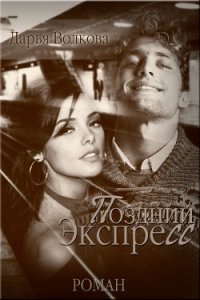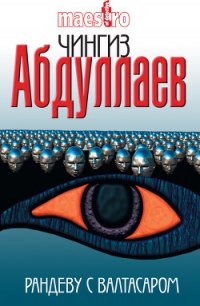Старый патагонский экспресс - Теру Пол (книги полностью бесплатно txt) 📗
Но Гатун задел меня за живое совсем по-другому. Гатун тронул тот кусок моего прошлого, который, как мне казалось, был утрачен. Я забыл о нем напрочь до той самой минуты, пока мы не оказались в этом самом месте. И если бы не мое путешествие, воспоминание так и лежало бы под спудом, никем не потревоженное. В 1953 году, когда мне было двенадцать и я был таким тощим и неуклюжим, что не мог даже толком поймать бейсбольный мяч, мой дядя — военный хирург, — к полному моему восторгу, пригласил меня провести лето у них в гостях в Форте-Ли в Вирджинии. Конечно, дядя был офицером. Заморенные рядовые, подбиравшие вдоль дороги обертки от жевательной резинки, всегда отдавали честь его машине, даже если дяди в машине не было, — настолько сильно было почтение к офицерским погонам. Когда выдавалась возможность, мы отправлялись на поле для гольфа, устроенное для офицеров. Там я познакомился со своим ровесником, его звали Миллер. У него на плавках была яркая желтая полоса. «Это от пикулей, — объяснил он. — Я пролил маринад, когда был в Германии». Довольно необычная причина, но я поверил ему, потому что у него был еще и немецкий штык. Миллер провел в Вирджинии достаточно времени и успел привыкнуть к ее жаре. Я же впервые попал в столь жаркий штат. Я попытался было следовать за своим дядей, но уже после шести лунок совершенно обессилел и вынужден был присесть в тени, пока дядя двигался к тринадцатой лунке — она оказалась неподалеку. Я честно пытался не обращать внимания на жару, как это делал Миллер, но всякий раз заканчивал вот так — в тени под деревом. Дядя даже решил, что у меня водянка. «Это мой племянник, — объяснял он партнерам по гольфу. — У него водянка». Обидное прозвище «Водянка» так и приклеилось ко мне на все лето. Форт-Ли был настоящим военным лагерем, однако он не походил на те военные форты, которые я знал по кинофильмам. Скорее он напоминал государственную тюрьму, которую отдали под сельский клуб. Помимо солдат, без конца салютовавших по поводу и без повода, здесь было множество черных, которые сновали повсюду, ухаживали за клумбами, подавали в кафе, спешили куда-то по залитым солнцем улицам или распыляли над газонами на задних дворах густые облака ДДТ, оставляя после себя кучи дохлой саранчи. Леса представляли собой чахлые сосновые рощицы, земля была такой красной, какой я больше не видел нигде, зато в домах было прохладно (я навсегда запомнил дядин «утренний кофе»). У дверей ресторанов в том месте, где в Бостоне обычно висела табличка с именем владельца — Дуффи или Джонс, — почему-то красовалось всегда одно и то же слово, которое я в детской невинности также принимал за имя, — «Уайт» [38]. Тут же проходила линия железной дороги до Петербурга и Хоупвелла; стрекот насекомых не затихал ни днем ни ночью; желтые оштукатуренные дома под красными черепичными крышами украшали живые изгороди, в точности как здесь.
И когда поезд остановился в Гатуне, я был ошеломлен: я снова оказался в Форте-Ли, заброшенный на двадцать пять лет назад, когда со смесью страха и восторга разглядывал военные постройки, чахлые деревья на красной почве, море алых цветов, желтые школьные автобусы, ряд старых «фордов» на стоянке, церковь, молодых солдат, которые выглядели потерянно вне строя, и пыль, оседавшую под жарким солнцем. Два мира встретились: это была самая что ни на есть Вирджиния середины пятидесятых, и запах был так силен, а память так ясна, что я подумал: «Следующая остановка будет Петербург!»
Дальше был Маунт-Хоуп, но Маунт-Хоуп оказался продолжением все того же наваждения. Со мной такое бывает нечасто: забраться в такую даль и с такой легкостью открыть кусок воспоминаний, совершенно потерянный когда-то. И, как во всех воспоминаниях, была какая-то одна особенно четкая деталь, как табличка с именем Уайт. Как же стар и тесен наш мир, и как легко я поддаюсь его иллюзиям!
Наваждение не покидало меня до самого Колона. Его кричащие противоречия буквально резали глаз. Он был колониален в самом откровенном смысле: уродливые многоквартирные дома по одну сторону железнодорожного полотна, пока мы проезжали кварталы аборигенов. И имперский военный городок по другую сторону полотна: идеально симметричные постройки, яхт-клуб, офицерское собрание, особняки, утопающие в цветах. Здесь правители, там управляемые. Это был самый старый вид колониализма, когда вы с первого взгляда понимаете, что находитесь в колонии, причем в колонии американской, в отличие от внешнего демократизма современных мультинациональных корпораций.
Многоквартирные дома походили на те, что я уже видел в Панаме. Их облезлые стены с потеками ржавчины вполне могли принадлежать домам во Французском квартале в Новом Орлеане или в старых районах Сингапура. Если Гатун и большая часть поселений на территории Зоны напоминали Форт-Ли, Вирджиния середины пятидесятых, все за границами Зоны можно было принять за коммерческие кварталы довоенного Сингапура: шумный и вонючий базар и уличные торговцы, которые тоже были в основном индийцами и китайцами.
Мне объяснили, что индийцы попали в Зону, завербовавшись у себя дома на строительство железной дороги. Теперь это уже трудно было проверить: рабочие они и есть рабочие, им не предоставляют права голоса на страницах исторических трактатов. В них сказано только, что в строительстве канала участвовали выходцы из семидесяти девяти стран мира — и одной из них вполне могла оказаться Индия. Правда, в Колоне я почему-то не нашел ни одного индийца, попавшего сюда таким образом. Мистер Гулчанд был вполне типичным представителем своей расы. Он был родом из Синдха и исповедовал индуизм — его лавку украшал цветной портрет Махатмы. После разделения Индии Синдх оказался на территории Пакистана, и в страхе перед исламскими властями мистер Гулчанд уехал в Бомбей. Это не была его родина, но, по крайней мере, Индия. Он занялся экспортом-импортом — по большей части с Филиппинами. Он побывал на Филиппинах. И ему там так понравилось, что в шестидесятых он перенес туда весь свой бизнес. Из-за вьетнамской войны Филиппины испытали недолговременный бум. И бизнес мистера Гулчанда процветал. Его переезд, с одной стороны, избавил его от английского влияния, а с другой — позволил близко познакомиться с американцами. И к тому же он научился говорить по-испански. Теперь он жил далеко от родины. И только Тихий океан отделял его от рынка в Колоне и обещания новых прибылей в Панаме. А там снова рост экспорта-импорта за счет связей с Центральной Америкой и город, почитаемый всей Латинской Америкой как столица мира: Майами. Он живет в Колоне уже пять лет. Он терпеть не может это место. Он тоскует по понятной ему неразберихе Бомбея — такой знакомой и родной анархии.
— В бизнесе полный застой, — утверждал мистер Гулчанд. Он винил в этом предстоящую передачу канала. История старая как мир: колония рушится, торговля стоит, белые бегут, цены падают. «Я не могу все здесь бросить».
А что он думает о Колоне?
— Жестокий город, — сказал мистер Гулчанд. — Военный.
Он посоветовал мне не носить на руке часы. Я обещал. Позднее в поисках почтового отделения я спросил дорогу у какого-то черного.
— Я вам покажу, куда идти, — сказал он. — Но вот это, — и он постучал по моим часам, — вы либо снимите, либо потеряете.
И я счел за благо их снять.
Вывески на магазинах были вполне предсказуемы: «Распродажа! Приходите все!», «Ликвидация склада», «Распродажа перед закрытием!».
«Я не знаю, что с нами будет», — сказал мистер Рейсс, управляющий похоронным бюро, в ответ на вопрос о последствиях передачи канала. Но, судя по этим вот вывескам в Колоне, решение будет скоро ратифицировано, и магазины опустеют.
Я поинтересовался еще у одного индийца, что он будет делать в случае передачи.
— Искать новые пути, — ответил он. — Новые страны.
Индийцы обвиняли черных в грубости; черные считали индийцев ворами. Правда, черные не отрицали, что кое-кто из них тоже может быть вором. Но обвиняли во всем молодежь, растаманов и безработных. Но в Колоне все как один выглядели безработными, даже хозяева лавок, и ни одного покупателя! Но если в бизнесе царил застой — а по мне, именно так это и выглядело, — то ничего удивительного в этом не было. Достаточно было взглянуть на предлагаемый товар: японские трубки такого вида, будто из них можно было лишь пускать мыльные пузыри; дорогие радиоприемники и до смешного навороченные видеокамеры; обеденные сервизы на двадцать четыре персоны и пурпурные диваны; кожаные ожерелья, пластиковые кимоно и выкидные ножи; и еще чучела крокодилов восьми размеров. Самый маленький стоил два доллара, самый большой (почти полтора метра) — шестьдесят пять Чучело броненосца за тридцать пять долларов и даже чучело жабы, похожее на шарик с лапками, — всего за доллар. И еще всякое барахло: ножи для разрезания бумаги, ониксовые яйца, корзинки для печенья и колоды карт — вот чем торговали все эти индийцы. Кому все это могло понадобиться?
38
«белый» — англ. — Прим. пер.