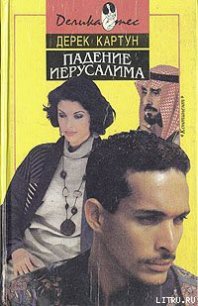Перекресток: путешествие среди армян - Марсден Филип (библиотека электронных книг txt) 📗
Гора Арарат.
Второе место после любви к Арарату, к Масису, в душе армян занимает страсть к родному языку. «Это народ, — писал Мандельштам, — который любуется ключами от родного языка, даже когда не собирается отворить ими дверь сокровищницы».
Матенадаран — алтарь этого культа. Расположенный на верхних склонах Еревана, откуда полностью виден Арарат, он служит хранилищем десяти тысяч манускриптов и сотен тысяч исторических документов. У входа восседает Месроп Маштоц, человек, который изобрел полк букв с тридцатью шестью воинами.
Трудно переоценить значение алфавита Месропа. Армяне и их алфавит неотделимы друг от друга — один не мог бы существовать без другого. Об этом единстве сложены легенды. Из 1915 года дошел до нас рассказ о женщинах, перед смертью выводивших на песке Дейр-эз-Зора буквы армянского алфавита с тем, чтобы дети не забыли их начертания. Поврежденные манускрипты армянского средневековья хоронили, словно рыцарей, со всеми подобающими почестями. Книга проповедей из Муша — огромная рукопись тринадцатого столетия, состоявшая из шестисот телячьих кож, была вывезена из Турции в 1915 году двумя женщинами, бежавшими из плена, причем она оказалась для них слишком тяжелой, так что им пришлось разделить ее на две части.
Говорят, что на заре советской эпохи большевики обратились к известному филологу. Они хотели, чтобы он переработал алфавит и тем самым ускорил ассимиляцию армян. Он отказался. Они связали его и жгли ему лицо сигаретами, но он стоял на своем. Тогда они обратились к другому филологу и стали пытать и его. В конце концов этот человек сдался. Спустя годы он заболел и утратил дар речи. Он написал первому филологу, прося приехать. Явившись, тот застал своего старого коллегу при смерти. Ему вручили записку. «Пожалуйста, — умолял больной, — прости меня…»
— Я прощаю тебя, — сказал первый филолог. — Но это ничего не значит. Скоро ты будешь в мире ином. Что ты скажешь, когда встретишься лицом к лицу со святым Месропом?
Французский филолог Антуан Милле восторгался алфавитом Месропа, называя его шедевром, а Маргарет Мид предложила выбрать армянский в качестве языка международного общения, считая его самым подходящим на эту роль из всех языков мира.
За Матенадараном, в толще горы, проложен туннель, который ведет к бункеру, предназначенному для защиты от ядерного поражения. Вся библиотека может быть перенесена сюда в считанные часы, и этот факт служит лишним горьким напоминанием о том, что Слово переживет людей.
Здесь ли сердце Армении? Возможно, что здесь. Если армянский язык — кровь, гонимая толчками этого сердца до отдаленных уголков диаспоры, тогда в самом деле сердцем должен быть Матенадаран. А может быть, сердце Армении — Арарат? Неприкосновенный Арарат. Арарат, украденный турками. Арарат, к которому демон Язатас приковал Артамазда. Но Артамазд однажды освободится от оков и спасет Армению…
Или сердцем является Эчмиадзин? «Свет Господний, сошедший на землю», престол Католикоса всех армян, величайшая святыня, куда каждый приезжающий армянин заходит, чтобы зажечь свечу, место, где освящается миро для крещения каждого армянского ребенка. Именно здесь расколотое самосознание армянской нации соединяется со своим символом, Армянским Христианством. Ни разу за советские годы Католикос и его вартапеты не отказались от Евхаристии, так же как и в предыдущие шестнадцать столетий. Под сводами центральной апсиды расположен позолоченный купол, несколько ниже — сонм святых, а еще ниже — бархатный покров алтаря. Это незыблемая и неизменная святыня для разбросанных по всему свету армян, их Кааба.
Но в глубине земли, под алтарем, древнее, чем все то, что находится сверху, древнее абсолютного большинства мест поклонения в мире, здесь, в самом центре Армении, был когда-то расположен храм огня. Сердце Армении — христианское, но ядро его — стихийное, языческое, и оно сохранилось.
В Ереване было жарко. Я пытался настигнуть весну на побережье Черного моря, а она уже была здесь, наполняя воздух теплом и белизной проплывающего тополиного пуха. Я обосновался в принадлежавшей молодой семье квартире со сводчатой дверью и несколькими врезными замками. Снаружи были цементные ступени и облупившаяся краска, внутри — бесценная коллекция живописи, русских икон, солнечных российских пейзажей и бронзовых будд из Сухотаи.
Не столько сам Ереван, сколько ощущение того, что я наконец добрался до цели, привело меня после приезда в состояние оцепенения и покоя. Впервые за долгие недели я выспался. Я получил возможность спокойно оглядеться. Мне не надо было беспокоиться о документах и границах: я был среди друзей. Так продолжалось около трех дней. Затем передо мною вновь встали вопросы, послужившие причиной моего путешествия. Разумеется, я надеялся, что сама Армения, скорее то, что от нее осталось, поможет мне понять проблемы диаспоры и причины ее выживаемости. Но Ереван предстал передо мной скорее советским, чем армянским городом. Его стилизованные площади и муниципальные здания — далее его автобусные остановки — преобразили традиционные мотивы армянской архитектуры в странную и вместе с тем безликую смесь.
Я подготовился к отъезду из Еревана. Один из моих знакомых, воспользовавшись старыми партийными связями, обеспечил мне возможность пожить в коттедже в лесу возле Дилижана. В последний перед отъездом день в Ереване я поднялся к памятнику жертвам резни 1915 года. Мощеная дорога к нему была необычайно мрачной. Два сооружения, подобные копью и щиту, вставали из земли: стройный обелиск и ряд наклоненных внутрь бетонных блоков. Вечный огонь горел под этими плитами. Вокруг него целый ряд высоких, по пояс, увядающих гвоздик: они были принесены скорбящими двадцать четвертого апреля, в отмечаемую ежегодно траурную дату.
Из трех частей монумента: пламени, плит и обелиска, две из них, две последние и наиболее заметные, символизируют землю и ее утрату. Двенадцать бетонных плит обозначают двенадцать утраченных областей Западной Армении, в то время как обелиск разделен длинной тонкой линией на две части, что символизирует разделение Западной и Восточной Армении.
Для меня это служило подтверждением истины, скрытой за фактом резни: потеря земли была столь же глубокой раной, как и утрата жизни. Этот факт преследовал судьбы всех изгнанников, с которыми я беседовал в диаспоре. Он стоял за каждой историей, которую они мне рассказывали. Это не уменьшало ужасов резни, скорее придавало им дополнительную глубину, позволяя увидеть корни всего происшедшего и как бы приблизить его, сделать почти осязаемым.
Из всех бывших советских республик Армения стала первой, осуществившей земельную реформу. Села теперь перестали быть придатками государственной машины. Мысль об армянских селах вызвала у меня желание стряхнуть с себя впечатления от продолжительного пребывания в городских домах диаспоры. Я пешком пересек Ереван и сел в автобус на Дилижан.
16
Он писал, что каждое живое существо обречено на гибель, и семена жизни восстают из смерти: мир продолжает существовать как результат этого противоречия.

Я уезжаю из Еревана и его знойного марева. Лишь Арарат возвышается над городом. Гора парит и вздымается, словно изображение на огромном экране; от нее исходит какая-то властная сила. Полдень стремителен и ярок. Высокие склоненные коконы тополей обрамляют дорогу из Еревана. На плато автобус проезжает мимо заброшенных теплиц бывших совхозов, мимо запутанной сети тросов и опор, мимо нелепых скульптур, неуклюжих памятников и автобусных остановок в форме рыбы.
Озеро Севан гладкое, словно зеркало. На его поверхности дрожат и извиваются вершины и хребты гор. Женщина поднимается в автобус. Из ее набитой форелью сумки сочится кровь. Жаркое горное солнце раскаляет автобус, словно жестянку. Густые леса покрывают склоны гор до самого подернутого дымкой горизонта. Дорога делает несколько немыслимых петель, и вдруг внизу появляется опрокинутая бетономешалка.