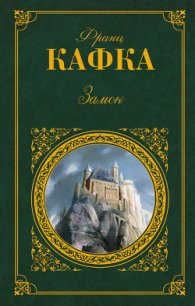Озерные арабы - Тесиджер Уилфрид (версия книг .txt) 📗
После этого он сел и некоторое время вежливо беседовал с мудиром, а затем откланялся.
К весне 1956 года массовое переселение в города прекратилось. Хотя некоторые семьи еще переезжали в Багдад и Басру, сообщения оттуда были уже не столь восторженными, а некоторые, разочаровавшись, вернулись в свои деревни. Зарплата в четверть динара в день казалось весьма заманчивой до прибытия в город, а там выяснилось, что ее едва хватало на то, чтобы скудно прокормить себя и семью. Более того, при плохой погоде строительные работы могли приостанавливаться на неделю, а то и больше, и тогда зарплаты не было вообще. И при этом за все надо было платить. Даже за воду, говорили некоторые. Тогда какой же смысл переезжать? Мужчина, остававшийся дома и работавший на своем рисовом поле, мог собрать урожай, достаточный для того, чтобы в течение года кормить семью; более того, после уплаты шейху его доли у него оставалось на руках зерна на тридцать пять динаров, что в конце концов было эквивалентом годовой зарплаты по два шиллинга в день, а ведь работать в поле приходилось всего шесть месяцев в году. В период, когда все работы на его поле были закончены, хозяин мог с семьей отправиться на уборку урожая в другой район и заработать зерно, что позволяло ему продать еще какую-то часть своего риса. Скот обеспечивал его молоком, можно было резать кур. Топливо, строительный материал и корм для животных доставались ему даром. В реках и озерах водилась рыба, а на болотах — водоплавающая дичь.
Помимо всего прочего, в деревнях контраст между уровнем жизни богатых и бедных был невелик. Шейхи вели такой же образ жизни, как и их соплеменники, только жили они побогаче. Но в Багдаде и Басре контраст ошеломлял. По соседству с роскошными отелями и виллами возникали трущобы; среди тростниковых лачуг валялись пустые жестянки, битые бутылки, рваная бумага. Трущобы эти были намного грязнее любой деревни.
Не так уж трудно расстаться с родовым образом жизни и уехать в город, но для потерпевших неудачу вернуться в лоно племени почти невозможно. В 1936 году, будучи в Марокко, я посетил трущобы на окраине Касабланки, которые французы называли бидонвиллями. Здесь обнищавшие берберы влачили жалкое существование в лачугах, сделанных из расплющенных канистр из-под бензина. Они пришли в Касабланку из своих горных деревушек во время послевоенного бума, когда в городе была острая потребность в рабочей силе. Затем в тридцатых годах наступила депрессия. Эти несчастные берберы выискивали объедки на свалке и десятками умирали от недоедания.
В Ираке многие из переселенцев уезжали из деревень, чтобы избавиться от тирании шейхов. Но в Багдаде и Басре они наталкивались на полицию. Поставив свои тростниковые шалаши среди таких же, беспорядочно разбросанных по ничейной земле в пределах города, они только-только начинали осваиваться, как вдруг являлась полиция с приказом очистить участок.
— Куда же нам идти?
— Куда угодно, только здесь оставаться нельзя. Возвращайтесь в свои деревни, если вам тут не нравится. Давайте, давайте, разбирайте этот дом. Поторапливайтесь! Нам некогда.
Они с трудом перебирались со своими пожитками на другое место, но полиция снова прогоняла их. Если они оседали на окраинах, им приходилось дорого платить за проезд автобусом на работу и обратно. Власти, встревоженные массовой миграцией в города, стремились остановить ее и поощряли полицию, которая и так считала, что имеет полное право издеваться над этой деревенщиной.
— Предъяви справку о демобилизации. У тебя ее нет? Тогда пойдем в полицейский участок.
Предполагалось, что в Ираке каждый мужчина должен отслужить два года в армии, но очень мало кто из переехавших был в армии. Как-то, когда я был у Фалиха, в мадьяф прибыл капитан в сопровождении сержанта и двух рядовых. Они несли толстые папки. Фалих был предупрежден об этом визите и должен был приготовить новобранцев. Был июль, жара стояла невыносимая. Толстый немолодой капитан и его команда с благодарностью приняли шербет и ароматизированный чай. Форма капитана была тесновата и не рассчитана на сидение на полу.
Он встал и направился к столу и стулу, поставленным для него в дальнем конце комнаты. Привели новобранцев — шестнадцать мальчиков. Все, кроме двоих, были несовершеннолетние. Их выстроили в шеренгу перед столом. Родители и прочие посетители сели вдоль стен. Капитан заглянул в папки, вытер платком лицо, надел очки и начал:
— Альван бин Шинта?
Ответа не последовало. Он повторил имя. Какой-то человек, сидевший у стены, сказал:
— Уехал с семьей в Басру в прошлом году.
Капитан порылся в бумагах, сделал какую-то отметку и продолжил:
— Чилаиб бин Хасан?
— Умер в прошлом году, — прозвучал короткий ответ.
— Мазиад бин Али?
Вперед вышел двенадцатилетний мальчик.
— Ты Мазиад бин Али?
— Нет, — быстро ответил мальчик, а потом, после откровенного тычка в спину: — Да!
— Ты Мазиад бин Али? — усомнился капитан, заглядывая в свои бумаги.
— Да. Я Мазиад бин… бин Али, — уже более уверенно сказал мальчик.
— Но тебе, по моим бумагам, должно быть восемнадцать!
Тщательно обтерев лицо, капитан повернулся к Фалиху.
— Здесь какая-то ошибка, Не может быть, чтобы это был Мазиад бин Али.
— У этих людей тяжелая жизнь, — мягко ответил Фалих. — Мальчики развиваются поздно.
Капитан сделал в своих бумагах еще одну пометку и произнес:
— Скажите ему, чтобы явился на следующий год.
После обильной трапезы капитан и его команда отбыли с двумя жертвами, которые заранее были отобраны для них. По всей видимости, остальные тридцать два лица, перечисленные в списке капитана, либо умерли, либо уехали, либо явно еще не доросли.
Когда земледельца поддерживает его шейх, такие беседы проходят весьма мирно. Но все выглядит совершенно иначе, когда в полицейском участке в Багдаде полиция, стремящаяся запугать человека и готовая применить силу, чтобы вытянуть у него деньги, требует справку о том, что он служил в армии.
23. О «дикарях» и о гостевых домах
В последнюю неделю апреля мы расстались с деревнями азайриджей и, приблизившись к Сайгалу, увидели за озером мадьяф Абдуллы. Этим утром мы спугнули несколько мраморных уток, прилетающих сюда весной, чтобы вывести потомство. Меня удивило количество красноголовых нырков, которые, по моим расчетам, к этому времени должны были уже улететь. Ясин настаивал, чтобы мы держались близ зарослей тростника, так как мог разыграться шторм. Несколькими днями ранее ураганный ветер сорвал тростниковые покрытия с многих домов в деревне, где мы останавливались. В прошлом году в это же время года мы более двух часов вынуждены были просидеть в этих же зарослях тростника, окутанных зловещей красноватой мглой.
Вдалеке на озере «дикари» ловили с лодок рыбу. Слышны были удары по жестянкам и звуки рассекавших воду шестов, с помощью которых они загоняли рыбу в сети. Маданы глубоко презирали «дикарей» и, хотя они и садились за еду вместе с ними, относились к ним почти с таким же пренебрежением, как к сабейцам, которые по социальному положению стояли ниже всех. Тем не менее члены племен никогда не говорили мне, что «дикари» отличаются от них происхождением. Презрительное отношение к ним целиком объяснялось их родом занятий. На первый взгляд это казалось нелогичным, так как маданы и сами ловят рыбу. Но «дикари» ловят рыбу сетями на продажу, тогда как маданы добывают рыбу острогой для пропитания. Правда, в последние годы маданы начали продавать рыбу, но это было отклонение от нормы. В прошлом никто из них не стал бы продавать рыбу, так же как не стал бы продавать молоко. Теперь обстоятельства заставляли их делать и то и другое. Например, у кочевых ферайгатов женщины продавали молоко и масло в Калъат-Салихе и Маджаре, если они разбивали лагерь возле этих городов. Первоначальное предубеждение против «дикарей» из-за торговли рыбой стало ассоциироваться с их способами ее ловли. Здесь, пожалуй, подходила такая параллель: