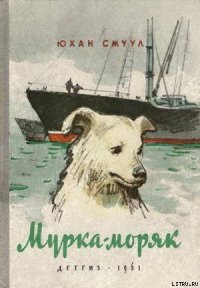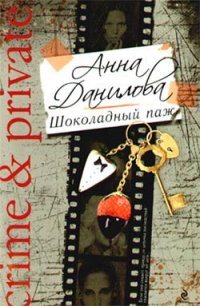Ледовая книга - Смуул Юхан Ю. (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
26 февраля 1958
Катер лоцмана прибыл ранним утром. На борт поднялись лоцман, таможенники и портовые врачи. Лоцман отправился на ходовой мостик. А врачи занялись нами. Мы маршировали перед ними с вытянутыми руками, переводчик выкликал наши фамилии, после чего следовала улыбка и «very good».
Аделаидская гавань расположена в устье реки. «Кооперация» шла малым ходом между причалами. Справа, на южном берегу реки, тянулись над самой водой мангровые заросли. Попадались рыболовные баркасы, немногочисленные корабли и — в укромных бухтах — множество маленьких яхт и моторных лодок, хотя парусный спорт тут считается развлечением, доступным лишь богачам.
Аделаида — большая гавань. У бетонированной набережной, застроенной низкими пакгаузами, стоят большие океанские пароходы с примерным водоизмещением в семь — десять — двенадцать тысяч тонн. Вымпела и фирменные эмблемы Австралии, Англии, Америки, Японии, Федеративной Республики Германии, Дании, Швеции и так далее. Над чужим осенним материком полное безветрие, жара и знойная дымка.
Буксиры проводят «Кооперацию» в самое сердце гавани. У одного пирса с нами стоит большое английское судно «Девон» и какое-то «Мару» — японское судно водоизмещением примерно в десять тысяч тонн.
Появление советского корабля, да ещё с антарктической экспедицией на борту, заставило высыпать на все палубы множество зрителей. На пристани показались портовые рабочие, таможенники в своей строгой чёрной форме и несколько полицейских. На берегу сразу бросилась в глаза знакомая реклама «кока-колы» на красном кузове автомобиля. Тянутся длинные склады, на рельсах узкоколейки сверкает солнце. После двух недель жизни на чистом солёном воздухе океана мы вновь вдыхаем запахи пыли и зёрна.
На пристани собирается народ. Советские корабли редко заходят в австралийские порты, и потому прибытие каждого судна под красным флагом — здесь событие. Как только спустили трап, на корабль первым поднялся профессор Глесснер с супругой. Глесснер — выдающийся учёный-нефтяник, перед второй мировой войной он по приглашению Советского правительства приезжал к нам в страну работать. Он неплохо изучил русский язык и женился на молодой московской балерине. У него хорошие отношения с нашими полярниками, из которых он знает многих, так как «Обь» и «Лена» ещё в 1956 году заходили в Аделаиду. И когда журналисты окружают начальника второй экспедиции Трешникова, Глесснер им говорит:
— Смотрите, чтобы не очень-то клеветать! (Впрочем, здесь тон прессы по отношению к нам корректный )
А тем временем на пристани совершается любопытное, в психологическом отношении даже захватывающее и не лишённое трагизма движение. В тени складов стоят целые семьи — и с детьми и без детей, — а от группы к группе переходят одинокие фигуры. Подавляющая часть этих людей говорит вполголоса по-русски. Из-за склада одна за другой выезжают машины — новые «холдены» (марка австралийского автомобиля), подержанные «холдены», совсем старые «холдены» и уже совершённые развалины, выпущенные, наверно, сразу после первой мировой войны, каких не увидишь больше не то что ни в одном портовом городе, но даже и на автомобильном кладбище. Некоторые тут же останавливаются, большинство же проезжает мимо «Кооперации» как можно медленней. Из окон жадно глядят на наш корабль серьёзные лица взрослых и заинтересованные рожицы ребят. Вскоре после того, как «Кооперация» пришвартовалась, не приспособленная для езды набережная превращается в проезжую дорогу. Машины объезжают вокруг склада и минуты три-четыре спустя появляются снова. Они тихо-тихо проезжают мимо, глаза уже смелее разглядывают иллюминаторы корабля и украдкой косятся на тех из нас, кто стоит на палубе. После двухминутной разведки машины останавливаются, люди выходят из машин и, заняв пост у стены склада, долго и нерешительно смотрят на трап «Кооперации», подняться по которому им не хватает духу.
Это русские эмигранты. Их колония в Аделаиде насчитывает около двадцати тысяч человек.
Алексей Толстой называет одну часть русских эмигрантов, осевших после революции в Париже, «извиняющимися». Наблюдая то, что происходит на пристани у трапа «Кооперации», тотчас вспоминаешь это определение. Эмигранты, в большинстве случаев семьями — муж и жена или муж, жена и дети, — подходят к трапу, недолго стоят в неуверенности и в замешательстве, наконец медленно поднимаются (ребята крепко при этом держатся за канат), добираются до палубы, и тут отец семейства обычно спрашивает:
— Извините, нельзя ли посмотреть корабль?
За всю свою антарктическую поездку я не слышал, чтобы столько раз произносили слово «извините», сколько его произносили здесь, на трапе и в коридорах «Кооперации». И чего только не содержало это «извините», какие различные оттенки оно приобретало в устах разных людей. Всего лишь одна фраза: «Извините, нельзя ли посмотреть корабль?»
Любопытство? И это тоже. Но не только это. Было тут ещё и другое: «Извините, нам столько лет врали, что мы хотим знать, корабль ли это в самом деле или просто пропаганда»; «Извините, но в ваших глазах мы, наверно, не иначе как предатели родины»; «Извините, но мы хотим что-нибудь услышать о своей прежней родине от вас, а не от газетчиков-эмигрантов»; «Извините, но мы тоскуем по своей России». Извините, извините, извините… Тут и тоска, и вопрос, и желание видеть людей, недавно покинувших ту страну и возвращающихся в ту страну, которая возродилась вновь после того, как они, эмигранты, добровольно или вынужденно её покинули, чей огромный, с каждым днём возрастающий авторитет, чьё могущество и чьи успехи не смеют отрицать даже буржуазные газеты Австралии, страну, с которой у австралийского правительства прервались дипломатические отношения после бесстыдной, даже с точки зрения капиталистического мира, плохо сфабрикованной и сейчас уже до конца разоблачённой афёры Петрова.
Вечером по «Кооперации» нельзя пройти. Везде толпы людей — и австралийцев и русских эмигрантов, — они запрудили коридоры, палубы и музыкальный салон, они во всех каютах, они пьют чай и ужинают в нашем ресторане, разглядывают картины, играют на рояле, танцуют — словом, чувствуют себя как дома. Более поздние пришельцы уже не извиняются без конца. Дети — полугодовалые, годовалые и двухлетние — хотят спать и хнычут, иные уже уложены на койках в каютах, на стульях в музыкальном салоне, а некоторые спят на руках у матерей.
Странный, противоречивый вечер.
Глядишь на трап, по которому все время поднимаются на корабль незнакомые люди, и думаешь, как много диссонансного в этих прилично одетых паломниках, на чьих русских лицах написано волнение, как много в них достоевщины и близкой к краху неустойчивости. И понимаешь, почему столь большой процент обитателей австралийских сумасшедших домов составляют эмигранты. Понимаешь и то, что приобретать в рассрочку дома и машины — не такое уж счастье.
На палубе показывают фильм об Антарктике, о первой советской экспедиции. Народу невероятно много, на третьей палубе людей столько, что яблоку негде упасть, шлюпочная и прогулочная палубы забиты до отказа, а часть зрителей смотрит фильм из тёмных окон ресторана. Тишина гробовая. Добрых две сотни людей стоит на пристани — на корабле больше нет места.
Свет судовых и портовых огней падает на трап, тускло поблёскивает крытое лаком дерево, ярко сверкает медь, дрожат во тьме серебристо-серые швартовы. А по трапу медленно поднимается старик в мятом костюме. Его шляпа неопределённого цвета вся в пятнах, его палка с гнутой ручкой со стуком волочится по ступенькам. Поравнявшись с вахтенным матросом, он глядит на него, словно надеясь увидеть знакомые черты, и говорит:
— Я русский.
— Тут много русских, — отвечает вахтенный.
— Извините, нельзя ли посмотреть корабль? Извините, я не помешаю?
Из эстонских эмигрантских поэтов младшего поколения я считаю самым талантливым, самым своеобразным и в то же время самым враждебным всему советскому Калью Лепика. У него есть свой почерк, своё лицо и своя ненависть. Бездарный поэт никогда бы не придумал того заглавия, какое он дал своему сборнику, вышедшему в Швеции: «Побирушки на лестницах».