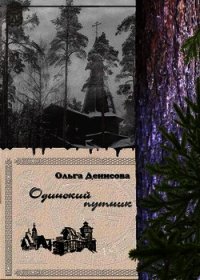Золотая Колыма - Волков Герман Григорьевич (читаем полную версию книг бесплатно .txt) 📗
Внизу лежала узкая долина реки Талой — той самой, где есть горячий источник, о котором был наслышан и Цареградский. Вся долина тонула в тумане, а река была в огромных незамерзающих промоинах и парила, несмотря на пятидесятиградусные морозы.
И вдруг Александров останавливает аргиш и объявляет отдых: большую дневку, дня на три-четыре, а может, и на неделю. Цареградский выразил неудовольствие, но проводник усмехнулся:
— Большой начальник Мюрат велел. Олени устали, ноги болят, руки болят. Мюрат лечить велел,— и на трех ездовых нартах, загруженных продуктами, направился в распадок.— Горячий вода там. Шибко помогай вода!
На обрывистых утесах выглядывали из-под снега кое-где белые туфы и застывшая лава. Цареградскому очень захотелось осмотреть ключ, и он поехал вместе с Александровым. Ручей весело бежал по камням. Над ним кружевами нависали заиндевелые ветви краснотала, ольхи. Они сверкали и искрились. Валентин громко выражал свое восхищение:
— Сказка!
— Что говоришь? — оборачивался якут.
— Сказка, говорю! Иней, как мишура на елке!
— Куржак.
— Что?
— Куржак, говорю!
— Подумать только, все это создано водяными парами.
Вскоре они свернули за небольшие моренные холмы, нагроможденные ледниковой эпохой, и въехали в небольшую котловинку. И тут, чуть не задохнувшись от застоявшегося сернистого газа, погрузились в липкий обволакивающий туман.
Снегу не было. Вместо него земля, камни, прошлогодняя трава серебрились изморозью. Кусты и деревья снизу доверху были щедро унизаны мохнатым инеем, будто облиты борной кислотой.
— Куржак,— вслед за якутом повторил Валентин.
Александров остановил нарту возле какой-то темной лужицы, курившейся сизым паром, и стал натягивать над нею бязевую палатку. Пар быстро набрался под ее пологом, как в бане на верхнем полке. Старик мигом обнажился и шустро полез в воду, даже не проверив ее ка ощупь. Нежась, Александров переворачивался с боку на бок, кряхтел:
— Ха! Ха| Хорошо! Шибко хорошо! Шибко горячий вода...
Валентин не рискнул потрогать «шибко горячий вода», извлек из рюкзака термометр и стал измерять. Температура воздуха была минус сорок четыре по Цельсию. А в лужице спиртовой столбик взлетел и замер на отметке плюс сорок четыре.
— Долго нельзя, Михаил Петрович.
— Можно, долго можно.
Лужиц было много. Каждая кипела газовыми пузырьками, и каждая, мутновато-темная, в заиндевелых берегах, походила ка старинную, почерневшую от времени икону в серебряном окладе.
Цареградский измерил температуру луж и установил, что чем выше грифон, тем выше и температура. Если в нижнем — сорок четыре, в среднем — пятьдесят шесть, а в самом верхнем — шестьдесят восемь, следовательно, здесь где-то бьет из земли и сам источник.
— А летом какая вода?
— Шибко горячий! Мясо варить можно.
— Ты сам-то не сварись, Михаил Петрович. Уже красный как рак. Вылезай-ка,
— Рано вылезай-ка. Долго сиди надо. Шибко надо.
Кожа старика заалела, покрылась мелкими бисеринками газовых пузырьков, глаза осоловели. Но вылезать он не торопился. Отмыл от грязи руки и, зачерпывая воду пригоршнями, стал лить на лысую голову. Совершив омовение, стал пить воду из ладоней, пофыркивая и отдуваясь:
— Ха! Ха! Шибко кусно!
Валентин тоже решил испытать воду на вкус. Зачерпнул кружкой из другой, более горячей лужи, подул и глотнул. Вода сильно отдавала сероводородом, как протухшее яйцо, но пить было можно.
Прошло не менее часа. Цареградский, боясь, как бы старик богу душу не отдал, потянул его за руку. Александров не сопротивлялся, но и не двигался. Пришлось его выволакивать, одевать, как малое дитя.
Якут едва ворочал языком:
— Избушка — веди...
Валентин тащил грузного старика на себе:
— Нельзя же так!..
— Можно. День можно, другой можно, еще можно, неделя можно. Рука дурная погода не сгибай, приехай, неделя лежи, рука хорошо сгибай.
Тащить, к счастью, пришлось недалеко. Из посеребренных снежным инеем зарослей выступила крохотная, под плоской кровлей избушка. Вошли. А в избушке — столик с двумя пнями вместо стульев, железная печурка на четырех камнях и две кровати. Печка — жестяная банка, труба составлена из баночек. Узкие деревянные лавки вдоль стен. На всем заиндевелая копоть. Давно, видно, здесь никто не бывал, и дух нежилой. Но в печурке по таежному обычаю заготовлены дрова. Разожгли огонь , печка вмиг покраснела, избушка озарилась багровыми сполохами.
За чаем Михаил Петрович разговорился:
— Лето тут шибко хорошо! Рано лето! Март — уже трава, цветы.
— И много раз ты здесь бывал?
— Шибко много! Как на Колыму — так сюда.
— И другие здесь лечились?
— Много другие. Купец Бушуев давно лечился, шестьдесят зим прошло. Купец Калинкин, Петр Николаевич, и его жена Аниса. Заведующий факторией, тоже Калинкин, Алексей Васильевич, много лечился. Старатель охотский Кузнецов на Колыме золото искал, а тут помер.
— Как — помер?
— Дурной был. Один был. Лежал той яме, где ты вода пил, там помер. Дурной он, припадок был. Когда я нашел, одни кости лежат. Вода все унесла. Кости я собрал и вон там закопал, похоронил, как Бориску...
Старик вдруг смолк, будто язык прикусил. Не знал, что сказать и Цареградский — онемел. О Бориске и его загадочной смерти он был наслышан. О Кузнецове услышал впервые, да еще сразу такое, что чуть не стошнило. И не зная, что сказать, Валентин спросил:
— А он золото нашел?
— Кто? Бориска?
— Нет. Тот, Кузнецов... припадочный?
— Моя не знает,— и Александров окончательно смолк, сделал вид, что заснул.
Упрямый якут лечил руки-ноги целую неделю.
Цареградскому и Казанли ничего не оставалось, как ждать и продолжать исследования источника. Он каждый день измерял температуру во всех трех лужах, взял воду и грязь для анализа и даже приспособился собирать пробы газа в бутылки.
Уезжая с горячего ключа, бодрый и посвежевший, Александров говорил:
— Рука, нога доробы — шибко поедем.
До Среднеканского перевала двигались без происшествий. Дни проводили на нартах, вечером расставляли палатки, пили чай, плотно ужинали и укладывались спать. Жаль, что дни были очень короткие — проезжали немного.
На Среднеканском перевале прихватила пурга. С юга подул сильный ветер южак, потеплело, и понеслись тучи снега. Олени и люди сгрудились среди тощих лиственниц, боясь отбиться и затеряться,
— Ходи нельзя, стоять будем! Хурта! — кричал Александров.
Хурта ревела и сшибала с ног. С трудом разбили палатку.
...Утром, белый, словно приведение, к ним ввалился Лежава-Мюрат:
— Быстрее в путь! Поедем налегке, на моих нартах. На Среднекане творится такое... одним словом — людоедство!..
БОЛЬШОЙ АРГИШ
Напраслину возводили на Демку. Пес, оставшись на торце застрявшего плота, не испугался ледяной воды, не обиделся на геологов, которые забыли перенести его вместе с грузом на берег. Демка, видно, не хотел мешать людям, всю ночь возившимся с подмоченными тюками. Пес до утра пролежал на одном месте, не меняя положения.
На рассвете, когда начали снимать плот с камня и Билибин перетащил Демку на берег, пес припустил по твердой, морозцем схваченной земле, чтоб размяться и согреться. Запахи осенней дичи увлекли его далеко в глубь тайги.
Слышал он и первый и второй выстрелы ружья Степана
Степановича, возвращался на оба сигнала, но всякий раз птицы отвлекали его. Когда пес вернулся на место ночевки, он не увидел ни плотов, ни хозяина, никого. Бросился в реку, поплыл вниз по течению.
Своих он не догнал. Видимо, скалы бохапчинского ущелья и бешеная вода помешали, а может, след не нашел. Возвратился на то же место, к порогу Два Медведя, долго рыскал в окрестностях и несколько ночей голосил на камне...
Якут-заика и его мальчонка манили собаку, соблазняли мясом, но пес не подошел к ним. Поджав хвост, уныло потрусил берегом вверх по реке.