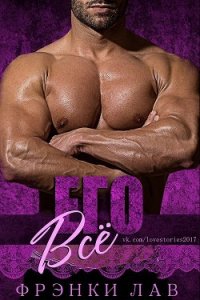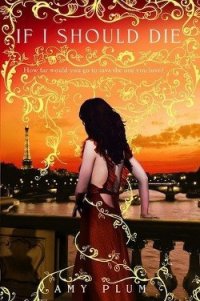Hollywood на Хане (СИ) - Рыбак Ян (лучшие книги без регистрации .TXT) 📗
Зажав в зубах ленточку своей воображаемой бескозырки, я вёл свой последний бой на подходе к скальным поясам между первым и вторым лагерем, сплёвывая распухшими губами мольбы и проклятия. Передо мной маячил, то приближаясь, то удаляясь, доходяга кореец, надолго повисавший на перильных верёвках, как бельё в безветренный день, но как только я приближался к нему, он распрямлялся раскладным ножиком, и продолжал ползти вверх, не давая себя обогнать. Было видно, что ему давно и безнадёжно плохо, но его азиатское твёрдоскулое и хищнозубое упорство гнало его вверх точно так же, как меня моё еврейское — ползучее и чертополошное.
Я догнал его на скалах, где он присел отдохнуть на удобной перестёжке перед крутым взлётом, с которого свисали разноцветные ошмётки верёвок. Когда я поравнялся с ним, он улыбнулся, сказал «Гуд» и вытащил из кармана куртки свой корейский «сникерс», который оказался мне как нельзя кстати. Я не стал ломаться: «сэнкюверимач!..», и тут же запихнул «сникерс» в рот.
Кореец остался сидеть на скальной полочке, а я пожумарил дальше, думая о тех вещах, о которых так хотел рассказать Гоша в нашем фильме: о том, что в таком месте, как эта гора, когда не остаётся более ни сил, ни мыслей, ни человеческого языка, не говоря уже о политике, религии и прочих «надстройках», между людьми последним мостом становится такая вот крохотная шоколадка. Это такая частная, не всеобъемлющая, не распространяющаяся за пределы нашего промороженного скального бастиона, но, тем не менее, — несомненная, правда…
Когда я выбрался на снежное плечо под «верблюдом», что стало для меня, как я уже говорил, своего рода маленькой личной Курской Дугой, переломившей ход сражения, я обнаружил в «снежном корыте» ту самую колоритную троицу, о которой я, собственно, и взялся рассказать. У них вовсю гудела горелка, и разливался по термосам чай, и они протянули мне кружку, хотя у меня был свой термос и свой чай. Затеялась обычная для случайных попутчиков беседа: кто да откуда, да где бывал в прежние времена. Евдакум выспрашивал меня на тему «есть ли жизнь в Израиле», проявляя благожелательное любопытство, Степан внимательно слушал, а Лёха ковырял снежок и сдерживал невнятные порывы души. Со своей стороны, я узнал, что они откомандированы на покорение Хан-Тенгри кумысской общественностью, возлагающей на них немалые надежды, а их восхождение подробно освещается в местной кумысской прессе.
На груди у Степана я приметил неожиданно серьёзную фотокамеру-«зеркалку»: то ли «Кэнон», то ли «Никон». Простой смертный, не обременённый художественными амбициями, не заносит такую пушку на эту гору, подумал я.
В это время на плечо выполз мой кореец, скользя вдоль перильного каната, как умирающий троллейбус к своей последней остановке… Докатившись до безопасного места, «троллейбус» отстегнул свои «бугели» и направился к нашему «корыту». Кто-то из кумысской троицы прошелся по нему с легким пренебрежением, имея в виду, при этом, всех корейских альпинистов вообще — одно из тех небрежных обобщений, которые мы позволяем себе, не переставая при этом быть убеждёнными интернационалистами… В других обстоятельствах я вполне мог бы поучаствовать в таком вот ритуальном облаивании случайного чужака, но тут я вступился за «своего» корейца: «Он нормальный мужик: отдал мне последний сникерс… Мы можем напоить его чаем?»
«Мы» напоили его свежеприготовленным чаем, за что кореец долго благодарил нас мелкими частыми поклонами на свой дальневосточный манер.
На подъёме к «верблюду» у меня открылось второе дыхание, я нагнал, а потом и перегнал кумысцев, которым было так плохо, как только может быть плохо не акклиматизированным людям на пяти с половиной тысячах метров. Лёха проводил меня удивлённым взглядом человека, открывшего для себя что-то новое и существенное, а Евдакум — взглядом уважительным и усталым. Какое-то время я слышал за спиной Стёпины стоны.
Накануне нашего отлёта, когда гора уже пережевала нас и выплюнула, а кумысцам только-только дала понять почем фунт лиха, и они спустились в базовый лагерь набираться сил ко второму выходу, мы со Стёпой разговорились на тему фотографии.
— Ты всерьёз этим занимаешься? — кивнул я на черную глазастую зверюгу, которую он бережно протирал бархатной тряпочкой, положив на колени.
— Я профессиональный фотограф — сказал Стёпа серьёзно, с чувством собственного достоинства — я снимаю на свадьбах, но хочу фотографировать природу. Я и сейчас фотографирую природу. Я посылаю фотографии в такие журналы — о природе, путешествиях, знаешь?
— Знаю. У меня недавно купило несколько фотографий одно итальянское издательство… — о, это мелкое тщеславие, — простительная только в других слабость!..
— Да? Я посылаю в русские. Фотографирую и посылаю. Горы, пейзажи. Есть интересные кадры.
— У тебя рано или поздно купят. Ты снимаешь на плёнку?
— Да, я снимаю на плёнку.
— Пришлёшь, когда напечатаешь? Отсканируешь несколько фоток?
— Да, но не скоро. Дай свой адрес.
— Бумажка есть?
Мы помолчали. В небе появилась первая звезда и повисла над плоским, блекнущим на глазах перламутровым облаком, как капля расплавленного металла над наковальней.
Стёпа бросил на меня быстрый, смущённый взгляд человека, опасающегося оказаться не понятым, и заговорил горячо и сбивчиво:
— Я бы хотел снимать звёзды, но ведь невозможно соревноваться!.. С НИМ невозможно соревноваться… — есть такой телескоп в космосе, я видел его снимки…
— Телескоп Хаббла?..
— Да, Хаббла… Я видел фотографии — все эти галактики, планеты, звёздные скопления — красота непередаваемая!.. У меня есть телескоп дома, но с ЭТИМ ведь невозможно соревноваться… — он сокрушенно покачал голой и умолк.
— Да, с Хабблом трудно соревноваться — я посмотрел на Стёпу с сочувственным интересом.
Мы сидели с ним на скамейке и наблюдали набирающую силу вечернюю звезду, столь далёкую, что даже телескоп Хаббла с его леденяще прозорливым глазом не в силах был превратить её в банальный в своей плоской очевидности диск, и это привносило в наши души грустный покой и примиряло с телескопом Хаббла и его непостижимым совершенством.
Отлёт
После завтрака мы выставили рюкзаки и баулы на вертолётную площадку и вернулись к столовой — окунуться в осеннюю круговерть прощаний, с её заведомо обречёнными обещаниями писать, с перекрёстным опылением адресами электронной почты, с поисками мимолётных приятелей, с которыми абсолютно необходимо сфотографироваться прямо сейчас, ибо другого случая не представится… Фотографирующиеся восходители и персонал лагеря образуют сложные букеты и соцветия, тасуются, как карточная колода, укладываются в причудливые калейдоскопические узоры. Частные междусобойчики отдельных групп и коллективов сочетаются с повальным стремлением оказаться в одном кадре с Урубко и его командой, с начальником лагеря — неутомимым «дядей Мухой», с симпатичными подначальными ему девушками.
Урубко блистает и гусарствует всё утро: ворот флисовой куртки — этого альпинистского доломана — поднят под горло, подчеркивая мужественное вознесение головы, левая рука уверенным нижним хватом сжимает гриф, правая — небрежно прогуливается по струнам. Репертуар непритязателен и обращён к простому народу — небрежно, слегка утомлённо… Мэтр на отдыхе.
Где бы Урубко не приземлился и не задержался, он конденсирует на себе рой заинтересованных поклонников. Кто-то робко пытается побыть рядом: отпечатать в памяти, сохранить для себя и передать знакомым, другие стараются оприходовать и присвоить: хотя бы на время, на пару часов сделаться своими в доску, и это выглядит убого и нелепо, поскольку, кем бы ни был окружен Урубко, с кем бы ни говорил и кому бы ни ронял с губ своих необременительных песен, он продолжает следовать своей, одному ему известной орбитой: неуклонный астероид, возмущающий своим притяжением прочие тела, но сам не отклоняющийся ни на йоту.