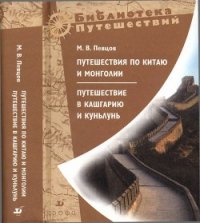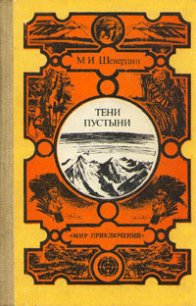Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии - Венюков Михаил Иванович (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Эту последнюю ее иркутские недоброжелательницы иногда называли «синим чулком» и «академиком в чепце»; но то была неудачная ложь. С тактом светски образованной женщины Ротчева всего менее походила на «синий чулок», на «семинариста в женской шали» и даже на «академика в чепце». А вот кто в Иркутске был академиком, хоть не в чепце, а в панталонах, с Анной на шее, — это Илларион Сергеевич Сельский. Он тоже принадлежал к сибирской интеллигенции и даже стоял официально в центре местного ученого кружка, то есть Сибирского отдела Географического общества. Несмотря на свой пожилой возраст и долгое пребывание в чиновничьей среде, он любил науку, и хотя был отсталым по многим ее отраслям, но все-таки сохранился открытым для всяких научных вопросов, особенно географических. Восточную Сибирь он знал, я думаю, лучше, чем кто-нибудь, как по личному осмотру значительной части ее, так и по книгам и документам, которых в отделе было немало и часть которых он собрал сам в разных архивах и от разных местных писателей. При нем отдел Русского Географического общества жил полной жизнью, издавал исправно книжки «Записок» и служил сборным пунктом всех, кто в Иркутске интересовался знанием. Сельский был, во-первых, отец-архивариус и, во-вторых, непременный секретарь этой походной академии, которая так часто менялась в своем составе. Как член Совета Главного управления, он едва ли имел серьезное влияние на ход дел в Сибири, потому что боялся Муравьева; но все же лишнею спицею в колеснице не был. Он возбуждал насмешки своим скопидомством; но никто не смел бы сказать, что им что-либо приобретено нечестным путем… кроме разве рукописей, про которые Н. Н. Муравьев как-то говорил мне на Зее, что «если распорядиться немного деспотически с Илларионом Сергеевичем, то у него можно открыть немало вещей из якутского и других архивов…». Может быть, даже почти наверное, так; но хищничества Сельского не имели характера личного присвоения, а служили на пользу науки, спасая от забвения и гибели многие интересные документы. Я бы мог лично претендовать на «скопидома» за продажу им Бенардаки, за 225 рублей, моего отчета об Уссури без моего согласия; но он сам заплатил мне за рукопись 150 рублей из сумм отдела. Если затем он соспекулировал на 75 рублей, то я готов думать, что не в собственную пользу, а для казны отдела. Притом он уже не возражал, когда я, узнав о его «обороте», передал статью секретарю самого Географического общества Ламанскому, в Петербурге, для «Вестника» общества, гораздо более распространенного в ученом мире, чем «Записки» Восточно-Сибирского отдела.
Из членов или постоянных посетителей этого отдела — настоящей иркутской академии муравьевского времени, можно бы вспомнить Шварца, Рашкова, Радде, Крыжина и Усольцева, то есть членов сибирской географической экспедиции 1855—1859 годов; доктора Кашина из Забайкалья; священника Аргентова из Нижне-Колымска; местных иркутских чиновников Маака, Гаупта и Пермыкина; горных инженеров Аносова, Баснина, Клейменова, Фитингофа; моих штабных сослуживцев — Будогосского, Турбина и Сгибнева, из которых последний был преемником Сельского в отделе; инженера Романова, столь прославившегося статьями об Амуре; купца Соловьева, который дал 15 000 рублей на исследование Амура натуралистом Мааком и на великолепное издание его отчета; купца же Пежемского, ведшего летопись Иркутска, и пр. Но что можно было сказать об их научной деятельности, — они сказали сами, и мне прибавлять, кажется, нечего. Довольно того, что их в муравьевское время было немало и что стоило Муравьеву уйти из Сибири, чтобы и они мало-помалу рассеялись по обширному пространству России: одни, — чтобы трудиться по-прежнему в области знания, другие, — чтобы заглохнуть в бюрократическом омуте. Самый блистательный представитель науки в послемуравьевское время — Н. М. Пржевальский {1.75} недолго оставался в Восточной Сибири, да и покамест был там, — сторонился или был отстраняем от местных влиятельных сфер. За довольно ярким днем, осветившим Сибирь и Амур в 1850—1860 годах, скоро наступила почти непроглядная ночь, которой, по счастью, я уже не был личным свидетелем. В этой ночи светилами явились лишь некоторые ссыльные поляки — Годлевский, Дыбовский, Чекановский да будущий эмигрант князь П. А. Кропоткин.
ОБОЗРЕНИЕ РЕКИ УССУРИ
И ЗЕМЕЛЬ К ВОСТОКУ ОТ НЕЕ ДО МОРЯ
В конце 1857 года, с получением в Санкт-Петербурге известия об открытии на западном берегу Японского моря заливов Владимира и Ольги, решено было открыть сообщение с этими местностями от Амура по реке Уссури, которой верховья должно было предполагать по близости моря, а именно невдалеке от той его части, где, по наблюдениям на пароходе «Америка» {2.1}, лежит Владимирский порт.
В то же время генерал-губернатору Восточной Сибири угодно было изъявить намерение командировать (меня] с этой целью на реку Уссури, почему я и счел долгом немедленно заняться собранием и изучением источников, какие только существуют для географии этой далекой и малоизвестной страны {2.2}, и озаботиться доставлением тех из них в Иркутск, которые можно было достать только в богатой учеными средствами столице.
Состав экспедиции, мне порученной, по самому назначению ее был очень немногочислен. Один зауряд-офицер как начальник команды, один переводчик гольдского языка {2.3}, моя прислуга и двенадцать казаков — таковы были мои спутники. Предполагалось, кроме того, дать мне в помощь двух топографов, находившихся уже в Приморской области {2.4} и хорошо знающих свое дело; но топографы эти не прибыли к должному времени на Уссурийский пост {2.5}, потому что распоряжение о них из Иркутска {2.6} было сделано несвоевременно и получено в Николаевске слишком поздно. Таким образом, весь труд съемки и других подробностей обозрения лег на меня одного. Не желая, чтобы составленная мной карта оставляла в недоразумении тех, которые бы стали впоследствии руководствоваться ею, я не позволял себе определять расстояния на глаз, а прошел все пространство от Уссурийского поста до устья Лифулэ {2.7} пешком, ведя счет шагам; это значительно замедляло ход наш, потому что, оставаясь бессменным съемщиком, я должен был несколько сберегать свои силы, преимущественно для проходов через горы, и потому идти средним числом по 20—22 версты в сутки, редко более 25-ти. Путь по высокой, густой траве на берегах, местами по грязи, крупным каменьям или лесной чаще очень утомлял меня, так что я иногда засыпал немедленно по окончании съемочной работы, успев лишь написать дневник. Но главное, чего лишала меня необходимость беспрерывно производить одну работу самому, это было собирание местных произведений и более подробное ознакомление с внутренностью страны и ее обитателями. Желая проверить, хотя отчасти, подробности д'Анвилевой карты {2.8} наглядным обозрением предмета, лежащего в стороне от русла Уссури, я поручил однажды вместо себя другому осмотр на некоторое расстояние одной из побочных рек; но так как посланный не умел хорошо руководствоваться компасом, то я не смею сказать, чтобы поправки, сделанные мною в очертании правых притоков Уссури, имели какое-либо другое основание, кроме показаний местных жителей, которые я пролагал на карту. Имея в виду для расчета времени и средств заменить чем-нибудь недостаток астрономических инструментов, я вел ежедневно сложное меркаторское счисление {2.9} своего пути, и оно-то заставляет меня думать, что старые определения иезуитов должны быть очень близки к истине, почему и карта д'Анвиля может считаться более верною, чем все другие, доселе изданные.