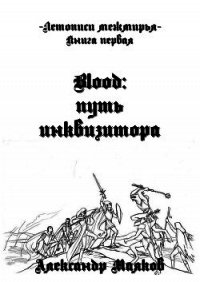Япония. В краю маяков и храмов - Шевцова Галина Викторовна (онлайн книги бесплатно полные .TXT) 📗
Показали нам также и наш институт иностранных языков — от общежития ехать сперва электричкой две станции. На нашей станции Минами-Сенри кто-то пририсовал кошке на рекламном щите гусарские усы и козлиную бородку. Не иначе как какой-нибудь иностранный студент постарался. Японцы к этому не пристрастны. А вообще хорошо — поднимает настроение. От электрички еще полчаса автобусом трястись. Ну и окраина этот наш иняз! Район называется Мино. Недалеко есть парк Мино. Там живут стаи диких обезьян. Серо-зеленоватых, волосатых и весьма своенравных. Говорят, их уже который год пытаются вытурить из парка в горы, но все безуспешно. Еще бы — ведь у этих самых обезьян в парке налажен совсем неплохой бизнес: они клянчат у прохожих монетки в 100 иен, кидают их в торговые автоматы, выбирают себе разные напитки, нажимают на кнопки, получают выбранное, открывают банки или бутылки и пьют! Таким же манером добывают еще мороженое, чипсы и всякое другое, чем автоматы торгуют.
Освоение иняза началось с конфуза. Я просто хотела найти компьютерную комнату, чтобы до Интернета наконец-то добраться. Поймала в коридоре какого-то аборигена и нет, чтобы сразу его про эту комнату спросить, решила сначала объяснить ситуацию. Здравствуйте, говорю. Я иностранный студент! А то он не понял! Потом говорю: у меня есть проблема. Он так участливо слушает, ему даже, по-моему, не смешно. Я, говорю, только что поступила в ваш университет. Точнее, это я так хотела сказать. Но, как назло, один слог перепутала и вместо этого ляпнула: меня только что положили в больницу. У него так лицо посерело, что я сразу поняла, что не то сказала… Потом я во дворе познакомилась с очень приятной пожилой японкой. Она филолог-русист, литературовед. Специализируется на детской литературе Советского Союза. Особенно тащится от Крапивина. У нее есть полное собрание его сочинений. Вот так сидишь себе дома, учишь японский, читаешь Акутагаву и Сэй Сёнагон. А в то же самое время кто-то в Японии штудирует русский и охотится за переизданиями Крапивина. Забавно, знаете ли.
В нашем университете есть два крупных отделения — одно для учащих иностранные языки японцев, другое — для изучающих японский иностранцев. Среди иностранцев тоже социального равенства не наблюдается. Есть разные программы, одни приехали на год, другие на два и больше. Есть такие, которые изучают тут японский с нуля и до упора — чтобы можно было потом поступить в другой местный университет на любую специальность. А есть такие, как я, — стажеры-исследователи. Нас сюда берут всего на полгода и гипотетически всего-навсего должны ознакомить с необходимым для жизни языковым минимумом. К счастью, перед зачислением в группы проводят письменный тест и собеседование. Не знаю, как я там написала письменную часть, но на собеседовании блистала: они спросили, кто у меня дома остался — кошачий самец или самка. Я сказала — самка, и котята, мол, тоже бывают. Они удивились, что я такие тонкости понимаю. Они же не знают, что это только по кошачьим делам я такая продвинутая! Так что я не особенно удивилась, когда меня отправили учиться совсем с другой группой: не к малышне, а туда, где совершенствуют язык профессиональные филологи. Из нашего потока исследователей в этом же положении оказались еще двое: девочка Лена из Екатеринбурга и француз Жан, которого тут все называют Большой Жан. Из нас троих организовали особый класс и даже куратора выделили — старого профессора Икимори.
Икимори — профессор русского языка. И в России бывал частенько. Очень его, бедного, расстроило в Москве написанное на огромной вывеске слово «цунами». Никак он не мог это слово опознать: «Падеж творительный, число множественное. Как „рвами“, „когтями“. А цунами… Единственное число будет… Цунам? В словаре что-то нету! Ага, есть просто цунами. Ой, да это ж наше родное японское цунами — падеж именительный, число единственное!» Теперь у профессора Икимори любимое занятие — задавать это слово японским студентам-русистам на грамматический анализ. То-то они мучаются, бедные. А профессор Икимори хихикает и ручки потирает.
Ленка из Екатеринбурга — это отдельная история. Сама она «японский сайз» — маленькая. И очень переживательная — каждая мелочь ее расстраивает. Вот сидит она в столовке грустная. Биток палочками ковыряет. Я ей говорю: ты чего такая, заболела, что ли? А она мне жалобно так: «У меня не болезнь, у меня — Рёто. Он решил из Екатеринбурга в Японию возвращаться через Питер и Минск. Путешествовать он, видите ли, хочет! Один маленький японец через всю страну и белорусскую границу! Да от него же даже рожки и ножки и те не доедут!» Рёто — филолог-русист и жених Лены. Он тоже в этом университете учится. А Ленка два года назад сюда уже приезжала. На другую стажировку. Так и познакомились. А теперь Рёто послали на год в Екатеринбург. А Ленку — с апреля опять сюда. Так они и сидят в разных местах. Правда, Рёто повезло все-таки больше, потому что он там в Екатеринбурге живет у Ленкиной мамы и в ус не дует. Но его стажировка в России уже заканчивается, и вот чего он теперь удумал! Бродяжить по сибирским железным дорогам! «Я против!» — стучит кулаком по столу Ленка. Но Рёто все равное едет. И в конце концов прибывает в Осаку живым. Правда, с потерями — по дороге где-то в российской тьмутаракани у него стырили любимую шапку-ушанку. Я без труда представляю его — этого взъерошенного щупленького парнишку с детскими глазами и вежливым, немного странным русским — в плацкартных поездах Урала, в заплеванных пьяных вокзалах, на ночных перегонах автостопных дорог, над серой питерской Невой и между блочно-стеклянными монстрами проспекта Мира в Минске. Россия — Рётина страсть. Как у некоторых из нас — Япония. А вы говорите — не осталось людей в наше время.
Профессор Икимори блаженно вздыхает и откидывается на спинку единственного кресла своего узкого кабинетика. Его левая кисть — темная и по-старчески морщинистая, равномерно размешивает ложечкой чай. Черный, а не зеленый. Профессор русского собирается заняться потрясающе редким, почти невозможным в Японии делом — выпить чаю со смородиновым вареньем. Он ухмыляется углом рта французу Жану: «Не слушай меня, мальчик, тебе этого не понять». «Мы все отравлены друг другом» — говорит мне профессор по-русски. На запыленной мутностеклянной баночке со смородиновым вареньем написано: «Забулдыбовский консервно-промышленный комбинат, цена 3 руб. 20 коп.». Я знаю, кто привез смородину Икимори. Это был Рёто. Кто же еще! «Мы все отравлены друг другом». Я знаю, что имеет в виду Икимори. Я представляю себе воробышка-Рёто в уральских степях. И помню старушку-японку, пляшущую над подаренной книгой Крапивина. И себя, маленькую, с томом Сэй Сёнагон под подушкой…
В том, что я оказалась в продвинутой группе, есть еще одно несомненное преимущество: мы имеем право сами выбирать предметы. Главное — набрать не меньше положенного количества лекций. А каких — все равно. Первую неделю занятий можно ходить на все — присматриваться к преподавателям, а после уж определяться. Хожу, смотрю. Кое-что уже присмотрела. Тут есть много хорошего — лекции по культуре, каллиграфия, разнообразные чтения по японской поэзии, по литературе разных времен и даже отдельно по женской японской литературе: их ведет шустрая пожилая тетенька в брючках-дудочках с мелированными волосами. Честно сказать, я выбираю предметы по двум принципам: «чтоб не очень напрягаться» и «если преподаватель прикольный». Второе, кажется, перевешивает.
Профессора тут вообще шедевральные.
Преподаватель иероглифов сэнсэй Куниката с ходу заявил, что он вообще-то философ, поэтому столько много иероглифов и знает. А еще сказал, что он у жены под каблуком, а это тоже располагает к изучению иероглифов. Другой — бородатый преподаватель истории иероглифов по имени Кадзи, весьма смахивает на старого пирата. И внешне, и по сути. Так и кажется, что от него пахнет морской солью, кострами и странствиями. А в происхождении иероглифов, оказывается, есть масса курьезов и прочих удивительных вещей. Например, иероглиф «ниси» («запад») очень похож на птичку в гнезде. И это неспроста. Просто птиц обычно замечают только на закате, когда они стаями летят к гнездовьям, прочерчивая черными черточками крыльев стремительные траектории на фоне красного неба. А происхождение иероглифа «исогасий» («быть занятым делами») по рисунку идет от идиомы «иметь умершее сердце». Каково, а? Есть фокусы и попроще — иероглиф «сима» («остров») расшифровывают как «птичьи скалы». А ведь и правда — на скалистых островах всегда птичьи колонии обживаются. Есть в японском еще слово «идзимеру», которое означает, что несколько сильных затюкивают кого-то слабого и непохожего на них. А иероглифы при этом бывают разные — либо две женщины, а между ними мужчина, либо два мужчины, а между ними женщина. Читаются эти конструкции одинаково. Мы часто играли в игру: Кадзи дает иероглифический ключ [5], а все по очереди придумывают на него по иероглифу. Одна девочка — Францис из Новой Зеландии — не смогла вспомнить иероглиф с ключом «мясо». Кадзи говорит: подумайте, мол, с этим ключом обычно разные части тела и внутренние органы бывают. Она все равно молчит. Он дальше «наводит»: вот в голове у вас что? (Стучит пальцем по виску.) Францис (растерянно): не знаю, наверное, у меня этого нету! Кадзи, кстати, еще по совместительству преподает профессиональный музыкальный японский и японскую систему нотной записи. Хочу пойти посмотреть, на что это похоже.
5
Иероглифический ключ— устоявшаяся часть иероглифа, повторяющаяся во многих разных, но в какой-то мере родственных по значению знаках. Помимо всего, в японском языке служит отправной точкой для поиска иероглифа в словаре.