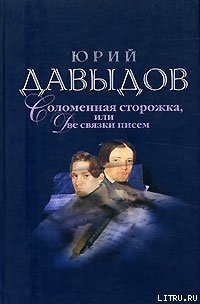Иди полным ветром - Давыдов Юрий Владимирович (читаем книги .txt) 📗
А подвахтенные уже выбираются из кубрика. Дробно стучат сапоги. Лица спросонок хмурые. Однако свежие. Свежее, пожалуй, нежели в Кронштадте год назад. Кого ни возьми – и рулевого, и марсовых, и служителей первой и второй статьи, – всех хоть сейчас на смотр. Вот только с Егором Мочаичевым беда. Ударило беднягу еще в Рио-де-Жанейро вымбовкой в живот, а он скрыл, работал ровней со всеми. И лежит теперь в корчах. Должно быть, не жилец. Надо б навестить парня после вахты…
Два месяца шел «Кроткий» от берегов Нукагивы к берегам Камчатки. И вот Петропавловский рейд. И небо в облаках, пышных, белых, взбитых, как большие подушки. Июнь, тишина.
За бортом «Кроткого» на деревянных скамеечках-беседках сидели, словно дятлы, матросы; лопаточками-шпателями сшибали они с корпуса старую краску: корабль требовалось выкрасить заново.
Негромко стучат лопаточки-шпатели, перекликаются матросы за бортом, поскрипывают блоки. А в нескольких кабельтовых – город. В городе пыль, тишина, скука. Смиренный Петропавловск-городок, какие страшные вести обрушил ты на Матюшкина!..
Запершись в каюте, Федор пил водку. Пил, не пьянея, не обретая забвения, а только чувствуя, как голова наливается тяжелой чугунной мутью.
Где ж ты был, Федор, в тот декабрьский день, когда друзья твои вышли на Сенатскую площадь? О чем думал в тот сумеречный час, когда пушки стреляли картечью по друзьям твоим, по солдатам Московского полка, по матросам Гвардейского экипажа?
В декабрьский день 1825 года «Кроткий» покидал Рио-де-Жанейро. В Питере была зима, студеный ветер нес ледяную крупу; в Бразилии полыхало лето, влажный ветер нес аромат кофе. Нет, не думал Федор, не гадал, что там, в России, умер император Александр и Тайное общество подняло восстание. Не думал, не гадал, что восставших разгромили. И, глядя, как истаивают бразильские горы, не знал, что в Петербурге, на Сенатской площади, полицейские подбирают трупы, волокут к темным прорубям на Неве…
Страшные вести обрушил Петропавловск на лейтенанта Матюшкина. Что-то надломилось в душе его и погасло. В Петропавловской церквушке, в той, где некогда венчалась Ксения, команда «Кроткого» была на молебне во здравие и благополучие нового государя императора всероссийского Николая Павловича. И Федор, окаменев, с отсутствующим выражением на обветренном лице, с выгоревшими до рыжины бровями, отстоял службу, а потом присягал, как и все, Николаю I.
А теперь сидел он, запершись в каюте, и пил водку. Где нескладный, милый Кюхля? Где Ваня Пущин? Где пылкая ватага мичманов-гвардейцев? Что с Рылеевым?
Ни слова об этом в единственном письме, полученном Федором в Петропавловске. Ни слова об этом в письме Мишки Яковлева, лицейского «старосты». Да ведь и не могло в нем быть никаких известий: письмо помечено десятым декабря двадцать пятого года. За четыре дня до «злодейского возмущения» повезли почтари послание Яковлева.
Со слов Яковлева узнал Федор, что Пушкина выслали из Одессы в глушь Псковщины, что опала продолжается и что Пушкин ознаменовал 19 октября – годовщину лицейскую – таким поэтическим творением, каких не знала русская словесность. И Яковлев – низкий ему за это поклон – посылал «Пустыннику Федору» чудные эти стихи.
«Веселых лет»?.. Не будет ни у тебя, Александр, ни у меня…
«Кто не пришел»? И больше не придет…
Спасибо, Пушкин…
«На долгую разлуку нас тайный рок, быть может, осудил…» Пушкин помнил эпиграф к его, Федора, дневнику, к тому дневнику, который он писал по совету и настоянию Пушкина: «Судьба на вечную разлуку, быть может, съединила нас».
Часть третья
Борись за свободу, где можешь…
1
– Они были в мундирах, при орденах, при саблях… Бестужев и Торсон шли первыми. Потом Антоша Арбузов… Ты знаешь всех: Вишневский, Дивов, Беляевы-братья… Да-да, ты всех знаешь, Федор.
«Кроткий» только что пришел на Малый кронштадтский рейд; на корабль приехали знакомые моряки: поздравить со счастливым окончанием двухлетнего кругосветного похода. Эразм Стогов, лейтенант, товарищ Федора по кронштадтскому береговому житью, явился к Матюшкину. Эразм захватил рейнвейна, но бутылка осталась непочатой. Стогов рассказывал, как свершилась гражданская казнь над друзьями, над теми из моряков, кто принял участие «в злодейском происшествии 14 декабря».
В тот июльский день – солнце и дождик – на кронверке Петропавловской крепости повесили Рылеева, Пестеля, Бестужева-Рюмина, Муравьева-Апостола, Каховского. А моряков-декабристов привезли из крепости на эскадру – «для поучения флота». Привезли на фрегат «Князь Владимир». И подняли на фрегате черный флаг. Арестантов окружило каре. Адмирал фон Моллер аккуратно читал приговор: «Каторжные работы навечно… Каторжные работы навечно… Двадцать лет каторжных работ… Двадцать лет каторжных работ…» Бог весть, кто первым бросился обнимать осужденных, каре смешалось, матросы плакали… Потом осужденные братья спустились в тюремную баржу, пароходик потащил баржи в Питер, в крепость… Теперь-то уже все на каторге, в рудниках Сибири.
– А вы? Что же вы?
– Мы?.. Ничего, – пробормотал Стогов.
– Ничего… – повторил Федор.
2
Давно уж осознал Федор, что произошло на Сенатской площади. И все-таки надеялся: государь не озаглавит царствование виселицами. С этой надеждой прошел Тихим, Индийским, Атлантическим. Не покидала она ни на Филиппинах, где «Кроткий» чинили, ни в штилевом безмолвии Зондского пролива, ни у базальтовых скал острова Святой Елены, последней обители Наполеона Бонапарта.
Правда, потом, говоря по совести, иное теснило сердце. Каждая миля приближала к Портсмуту. «Ксения, Ксения, Ксения… Должно быть, – думал он, – фрегат «Блоссом», тот, что заходил в Петропавловск, доставил уже в Англию не только англичан, подобранных близ Нукагивы, но и известие о гибели капитана Кокрена».
В Портсмуте, в домике из красного кирпича, что был рядом с отелем «Джордж», Федор нашел Кокрена-старшего.
– Миссис Кокрен? – переспросил старик, отирая слезящиеся глаза. – Она уехала.
– Куда? – вскрикнул Федор.
Старик вздрогнул.
– Куда? – тихо повторил Федор.
Старик понял: так не спрашивают из простого любопытства. «Вот этот, – подумал он, глядя на статного темноглазого лейтенанта, – этот будет счастлив». Старик процедил:
– В Кронштадт, к благодетелям. – И прибавил резко: – Прощайте!