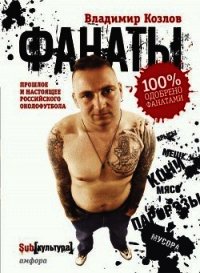Одержимый - Санин Владимир Маркович (библиотека книг TXT) 📗
Капитан Чупиков, уравновешенный и интеллигентный человек, при упоминании фамилии Чернышёва слегка побагровел.
— Да, мы действительно знакомы с детства, но я не считаю это большой удачей. Чернышёв… как бы получше выразиться… человек весьма эксцентричный, никогда не знаешь, в какую сторону его развернёт в следующую минуту. Пообщаетесь с ним — поймёте. Бешено честолюбив, ради успеха готов на все, через лучшего друга перешагнёт. К тому же циник и хам. Вот вам образцы самых изысканных комплиментов, которыми он удостаивает своих товарищей по работе: «Хоть глаза и бараньи, а не так уж безнадёжно глуп». Или: «Хороший моряк, я, пожалуй, взял бы его третьим помощником» — это, между прочим, об Астахове, капитане с двадцатилетним стажем!
— Да-а… Сам-то Чернышёв — моряк приличный?
— Моряк — это совокупность многих качеств. А человек, который может в глаза обозвать своего коллегу… э-э… бараном с куриными мозгами, такой человек…
Чувствуя, что мой собеседник разволновался, я свернул разговор и пошёл к отставному капитану Ермишину, который на старости лет сам пописывал в газетах и был для местных газетчиков неиссякаемым источником всякой морской информации.
— Все верно, — подтвердил Ермишин, — трудная личность, чуть что — втыкает шило в одно место. Многие его не любят…
— Чупиков, например, — выжидательно подсказал я.
— Ну, с Чупиковым все понятно, в молодости Алексей Машу из-под венца у него увёл. Неужто не слышал? Большой скандал был. Но вот что я тебе скажу: поменьше ты их спрашивай, такого тебе наговорят! Рыбу он лучше их ловит — вот и всё дела. У меня, прошлое дело, был нюх на рыбу, но у Алексея — моё почтение. Целая флотилия по морю пустая шастает, а он забьётся куда-нибудь под рифы, куда другой и подойти боится, и таскает один трал за другим. Ему самому уже за сорок, а не стесняется прийти, спросить совета у старика — тоже характеризует, верно? Обложить, облаять, конечно, может, недостатков у кого не бывает, среди нашего брата рыбака святых не водилось, разве что Николай-угодник.
Приободрённый, я тут же позвонил Чернышёву и представился.
— Валяй, — прозвучал в трубке скрипучий голос, — я дома.
— Ты его не бойся, — напутствовал меня Ермишин, — не съест. Пропускай, если что не нравится, мимо ушей и не пяль глаза на Машу, он этого не любит, а при случае может и врезать. Ну, бывай, потом доложишь.
Чернышёв жил в доме напротив.
— Входи, борзописец, — вполне дружелюбно предложил он. — Надень тапочки, я паркет надраил.
— Мы сразу переходим на «ты»? — поинтересовался я, разуваясь.
— А чего церемониться, и ты не Толстой, и я не министр. Маша, знакомься, тот самый газетный деятель, что из меня героя хочет делать.
Слегка располневшая, но очень миловидная особа лет тридцати церемонно протянула мне тёплую руку. Глаза у Чернышёвой были влажные и влекущие, полные губы чуть тронула улыбка — тоже влекущая, так называемая загадочная улыбка, что-то на первый взгляд обещающая, а что — один черт знает. Позабыв про совет Ермишина, я несколько дольше, чем следовало, «пялил глаза» и был немедленно поставлен на место.
— Ты к моей жене пришёл или ко мне? — буркнул Чернышёв. — Смотри, друг ситный, не вздумай брать у Маши интервью, когда я уйду в море.
— А когда вы уходите? — исключительно глупо спросил я. — Я к тому, что…
Чернышёвы посмотрели друг на друга и рассмеялись.
— Понятно, — прервал Чернышёв. — Маша, заноси в свой реестр ещё одного леща и ступай… Что, хороша у меня жена?
— Хороша, — согласился я, опять же с несколько большим энтузиазмом, чем следовало. — А что, много этих… лещей в реестре?
— Штук десять наберётся, — беззаботно ответил Чернышёв, вводя меня в комнату, служившую, видимо, кабинетом и гостиной, и с грохотом пододвигая кресла к журнальному столику. — Тебя Павлом зовут? Садись, Паша, и спрашивай, что надо.
Пожалуй, самое время дать его портрет. Представьте себе человека чуть выше среднего роста, очень худого, но ширококостного, с туго обтянутым дублёной кожей лицом, на котором весьма приметны высокий лоб — за счёт отступившей полуседой шевелюры, серые с льдинкой глаза, ястребиный нос и мощный подбородок; руки сильные и узловатые, с ревматическими утолщениями на пальцах, а походка энергичная, несмотря на лёгкую хромоту.
— Садись же, — повторил Чернышёв и сам удобно погрузился в кресло. — Твоё, как вы говорите, творчество мне знакомо, читал твою книжку про знатных земляков.
Я польщено склонил голову.
— Плохая книжка, — продолжил Чернышёв. — Плаваешь на поверхности, не человека описываешь, а как он план выполняет, И опять же умиляешься на каждой странице: смотрите, какие они у меня все хорошие! Блестят твои земляки, как хромированные. А ведь книга немалые деньги, полтинник стоит. Купишь такую, полистаешь и расстраиваешься: лучше бы мне дали по морде!
Я вытащил кошелёк, отсчитал пятьдесят копеек.
— Что ж, это справедливо! — Чернышёв взял деньги и сунул в карман пижамы. — Будем считать, познакомились, приступим к делу.
Со стыдом припоминаю, что впервые в своей журналистской практике я растерялся. До сих пор люди, о которых я собирался писать, вели себя совершенно по-иному: одни со сдержанным достоинством, другие чрезмерно предупредительно, третьи не скрывали радости, что их имя появится в газете, — простительная человеческая слабость; но впервые человек, которого я интервьюировал, лез вон из кожи, чтобы произвести самое неблагоприятное впечатление.
— Мне поручено, — я, сделав акцент на последнем слове и ледяным тоном повторил, — поручено написать о вашем последнем рейсе. Какие обстоятельства предопределили успешное выполнение плана добычи рыбы?
— Молодец, — похвалил Чернышёв. — Берёшь быка за рога. Записывай: первое — дружба, второе — взаимопомощь, третье — энтузиазм и трудовой подъем. Все или ещё чего добавить?
— Пожалуй, достаточно. — Я встал и сунул блокнот в карман. — Был счастлив познакомиться, всего хорошего.
— Ладно, хватит валять дурака! — Чернышёв довольно бесцеремонно толкнул меня обратно в кресло. — Маша! — неожиданно рявкнул он так, что я вздрогнул.