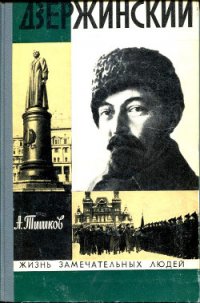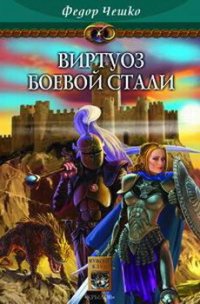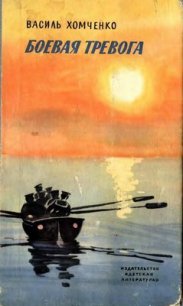Хранить вечно - Шахмагонов Федор Федорович (смотреть онлайн бесплатно книга TXT) 📗
Меня удивил тон генерала. Нерешительность проступала за его словами. Он никому из своего окружения никогда не сказал бы: «Я не могу вам навязывать своих взглядов…» А именно с этой фразы он и начал. Затем заговорил о моей молодости, о моем оптимизме. Я даже порадовался. Стало быть, сумел скрыть и свое мрачное настроение, и отчаяние от того, что происходило на моих глазах. А потом объяснился:
— Я не хотел бы, чтобы господин Рамфоринх получил искаженное представление о положении дел на фронте… Надеюсь, вы не рассчитываете на прогулку по Москве через несколько дней…
Знал бы генерал, как я ликовал, услышав мрачные нотки в его голосе. Но я прежде всего изобразил удивление.
— Я слышал, что наш гость (я имел в виду писателя с серебряным карандашиком) близок к рейхсфюреру и к доктору Геббельсу… Он располагает самой точной информацией…
Генерал поморщился.
— Вы человек штатский, — ответил он мне. — Вам простительно не знать, кто располагает во время военных действий самой точной информацией. Никогда высшее командование, никогда командование группы войск… И даже командир дивизии видит все отраженно. Самой точной информацией располагает солдат… Он прежде всех чувствует и нажим, и силу сопротивления противника…
— И что же чувствует сейчас солдат?
— Передайте барону, что солдат чувствует нарастание сопротивления.
— Но все это кончится, когда в Москве совершится переворот? — подбросил я прощупывающий вопрос генералу.
— Если бы сопротивление слабело, я мог бы надеяться на какие-то события в Москве… Сопротивление возрастает, значит, русские собирают свои силы… Война, если она популярна в народе, объединяет, а не разъединяет…
Мне трудно было удержать слезы. Они душили меня. Передвижение войск, планы, схемы расположения частей… Все это важно, все ото нужно, но вот понимание генералом событий, даже его ощущение хода событий, — это действительно сейчас было важным для Центра.
Отсюда, из штаба группы, у меня еще не было связи. Я решил любыми средствами настоять, чтобы Рамфоринх хотя бы на один день взял меня в Берлин.
И Рамфоринх взволнован, стало быть, и оттуда, из Берлина, не всем видится ход войны, как был задуман. Он встретил меня вопросом.
— Что вы могли бы сказать мне? — спросил он меня.
— Минск пал… Немецкая армия имеет успехи… — ответил я осторожно.
Барон внимательно посмотрел на меня.
— Да, да! — подтвердил он. — Но я слышу иронию в вашем голосе. Это горечь за своих?
— Вы правы, господин барон! Радоваться мне нет причин!
Барон покачал головой.
— Самое удивительное, что и у меня мало причин для радости. Не взят Киев, стоит Ленинград! Что вы думаете о ходе войны?
— Я не очень понял, что происходит… Первые дни меня удивили… Но с каждым днем сопротивление нарастает… Об этом просил сообщить вам генерал!
— Просил? Подтолкнуть войска вперед, когда они не встречали сопротивления, это было возможно! Но как заставить их сломить сопротивление противника? Я хочу воспользоваться вами как переводчиком… Мне надо поговорить с русскими пленными…
Мы выехали на бронированной машине на одну из дорог, по которой этапировали наших пленных. Барона сопровождал офицер из штаба группы армий.
Пыльный проселок… Такой обычный для России, словно нарочно его подбирали, чтобы сразу был похож и на белорусские, и на смоленские проселки, и на рязанскую землю, и на калужские лиственные рощи.
Деревенька на краю луга.
Хатенки, крытые соломой, над крышами свесили свои густые ветви тополя. На верхушках тополей и на крышах — гнезда аистов. Луг, дорога к броду через речушку, а на взгорке — лесная молодь.
Пыль стелется над дорогой, оседает на пожухлые листы подорожника, обволакивает низкорослый кустарник, гасит все звуки, даже голоса. Длинная колонна идет молча, шорох шагов в пыли…
Идут раненые и истерзанные люди, пропылились повязки, бурые от крови. Кто-то опирается на самодельные костыли, у кою-то руки в гипсе — этих взяли прямо из полевого лазарета. Босиком, без ремней, под дулами автоматов…
Первым Рамфоринх извлек чернявенького юнца лет девятнадцати.
Автоматчики отвели его в сторонку. Он забеспокоился.
— Зачем? Почему? — вопрошал он у автоматчика.
Рамфоринх обернулся ко мне:
— Объясните, никто ему худого не сделает…
Я подошел к чернявенькому. Он понял, что говорить ему надо со мной. Он сунул мне в руки «пропуск», листовку, которой немцы приманивали сдаваться в плен. Захлебываясь, спешил объяснить:
— По пропуску! Я сам! Сам! Хайль Гитлер!
Он даже сумел выбросить в приветствии руку. Сопровождающий офицер презрительно отвернулся. У Рамфоринха этот жест вызвал усмешку.
В это время автоматчики выхватили из колонны еще одного человека. Пожилого, в командирской фуражке, с воспаленными глазами, с обожженной кожей на лице. Ему можно было дать лет сорок. Очевидно, старый командир, судя по осанке. Петлицы сорваны, но командирская фуражка и китель уцелели, стало быть, не скрывает своего звания. Под нацеленными в спину автоматами он вышел из колонны. Но он не встал рядом с чернявеньким, он повернулся к нему спиной и отступил в сторону.
Из колонны вытолкнули еще одного пленного в штатском. Он молод, ему от силы двадцать пять лет. Остановился рядом с командиром молоденький веснушчатый паренек в рваной солдатской гимнастерке.
Рамфоринх смотрел на проходящих и указывал, кого ему вызвать.
Пленных отвели в сторонку, под тень придорожной ивы, но и не так-то близко к лесу. Между лесом и машиной барона встали бронемашина и бронетранспортер с автоматчиками.
Шофер вынес из машины портплед. Барон приказал угостить пленных пивом и положил перед ними несколько пачек немецких сигарет.
Первые слова, обращенные к пленным, содержали заверение, что он человек не военный, но ему интересно «побеседовать» с пленными, взятыми в бою немецкой армией, что его нисколько не интересуют военные тайны, что он ни в чем не будет побуждать нарушить военную присягу.
— Меня не интересуют даже их имена! — сказал мне барон. — Мне надо, чтобы они обрисовали свое общественное положение в России…
— Я не собираюсь утаивать ни своего имени, ни своего общественного положения! — тут же ответил командир и назвался батальонным комиссаром Рожковым Иваном Дмитриевичем.
Чернявенький юноша поспешил выкрикнуть:
— Я все открою! Я давно жду допроса!
— Кто вы, откуда? — спросил я у него.
— Дайте мне автомат! Буду бить коммунистов! Я ненавижу! Хотите, вот этих пленных — из пулемета, из пулемета!
Барон и без перевода уловил смысл его слов. Он оживился. Автоматчик, обеспокоенный страстностью чернявенького, отжал его в сторонку и приставил к спине автомат.
— Он хочет воевать за Гитлера? — спросил барон.
— Он просит оружие… — пояснил я барону. — Клянется, что ненавидит коммунистов.
Последовал спокойный вопрос:
— За что он ненавидит коммунистов?
Не в характере Рамфоринха было доверять эмоциям.
— Вы должны объяснить, почему вы, такой молодой, и вдруг ненавидите коммунистов…
— И Советскую власть! — отрубил чернявенький. — Коммунисты разорили отца, отняли все, а потом убили…
— Что же у вас отняли?
— Не у меня! У отца! У отца был дворец, они отобрали дворец! Он был самым богатым человеком на юге, а умер нищим!
Я перевел. Барон разочарованно покачал головой:
— Этот мальчик мне не интересен… Таких в России осталось мало…
Барон сделал знак рукой, автоматчик оттеснил чернявенького в колонну.
— Ваша очередь! — обратился я к Рожкову.
Он на шаг выступил вперед.
— Я коммунист и не боюсь этого сказать вашему господину. Меня ждет расстрел, и я скажу правду.
Я остановил Рожкова жестом руки и перевел его слова барону.
— Он чувствует себя смертником! — заметил барон. — Это может повлиять на высказывания. Объясните ему, что я распоряжусь. Его не расстреляют.
— Кто он, этот господин в штатском? — спросил Рожков.