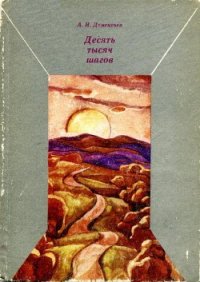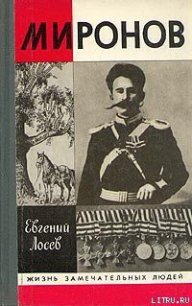Тонкая нить(изд.1968) - Яковлев Андрей Яковлевич (книги без регистрации полные версии .TXT) 📗
— Но, узнав о смерти вашей сестры только от Василия Николаевича, как вы можете знать больше того, что знает он, знаем мы. Знать, наконец, кто был убийцей? Кстати, убийца нам известен. Говоря по совести, я не совсем понимаю… — Миронов развел руками.
— Нет, — резко возразил Корнильев, — убийцу Ольги вы не знаете. Вернее, вы знаете, кто ее убил, но кто этот человек, вам не известно.
— А вам, вам известно? — не скрывая раздражения, воскликнул Миронов.
— Может статься, да, — с внезапным спокойствием твердо и уверенно сказал Корнильев.
Миронов смотрел на Корнильева с недоумением: что он, этот Корнильев, мистифицирует его, что ли? Что за самонадеянность? Откуда ему, человеку, полгода проплутавшему в горах Тянь-Шаня, далекому от дел сестры, не видавшему, судя по всему, никогда в жизни Черняева, знать, кто скрывается под его личиной. Миронов собрался было одернуть Корнильева, поставить его на место, но не успел: неожиданно вмешался Луганов.
— Послушайте, товарищи, — сказал он сердито, — что-то у вас получается не то. Георгий Николаевич, а где письмо? Почему вы не даете его Андрею Ивановичу? К чему эти разговоры? Мы же зря тратим время!
— Ах да, письмо! — смутился Корнильев. — Простите. Из вида вон… Надеюсь, вы поймете мое состояние.
Он вынул из внутреннего кармана пиджака объемистый конверт и протянул Миронову.
— Еще раз прошу извинить, — сказал он. — Именно это письмо и привело меня в КГБ. Беда в том, что поздно… Да, слишком поздно…
Миронов взял письмо и внимательно осмотрел конверт. Он сразу заметил, что обратного адреса на конверте не было, но зато стоял штамп места отправления — Крайск, и дата — пятнадцатое мая текущего года.
«Пятнадцатое мая, — подумал Миронов. — Ровно за две недели до гибели Корнильевой. Но когда же оно было получено в Алма-Ате? Где пролежало чуть не полгода? Судя по алма-атинскому штампу, письмо, отправленное из Крайска авиапочтой, было получено в Алма-Ате восемнадцатого мая, то есть за полторы недели до того дня, как была убита Корнильева. Почему же Георгий Николаевич только сейчас явился с этим письмом? Почему молчал раньше?»
Корнильев, заметив, как внимательно Миронов рассматривает почтовые штампы, поспешил на выручку:
— Видите ли, наша экспедиция покинула Алма-Ату как раз восемнадцатого мая, ранним утром. Задержись я на сутки, и письмо бы было вручено вовремя… Но… В общем, об этом нечего говорить…
Дня за три до отъезда в экспедицию, — продолжал после минутной паузы Корнильев, — я отправил семью на лето на Украину, к родителям жены. Квартира оставалась пустой. Жена с ребятами вернулась задолго до меня, в конце августа, к началу учебного года. За время нашего отсутствия накопилось много корреспонденции: у меня ведь большая переписка, которую жена не имеет привычки просматривать. Письма, адресованные мне, она складывает на моем рабочем столе. Так до моего возвращения лежало и это письмо… Что было дальше, объяснять незачем: как только я обнаружил письмо и прочел его, кинулся в КГБ. Там, едва узнав, что речь идет о моей сестре, что письмо из Крайска, говорить со мной не стали: попросили подождать. Потом появился Василий Николаевич, и вот мы здесь. Да вы прочитайте письмо, вам все станет ясно.
Миронов вынул из конверта несколько листков почтовой бумаги, исписанных мелким неровным почерком, Ольга Корнильева писала:
«Жорж, дорогой!
Мне очень трудно об этом писать, трудно писать тебе, но больше некому, ты прости. Как-то повелось у меня в жизни так, что, когда бывало очень трудно, я всегда в тебе находила опору. Моя вина, что вот уже столько лет я многое от тебя утаивала. Жорж, помоги, я зашла в тупик, мне так страшно! Если бы ты смог приехать, ты знал бы, что делать. Я пишу глупо, путано, но так все ужасно, так неимоверно тяжело…
Тогда, когда мы встретились после окончания войны, я сказала тебе не всю правду. Боялась. Но дальше молчать нельзя. Попробую рассказать по порядку. Я тебе уже говорила, что после отправки в тыл к немцам работала радисткой одного из партизанских отрядов. Потом я была ранена и попала в плен. Так все и было. Но ни тебе, никому другому я не говорила о том, что произошло со мной в фашистском аду. Люди там, в лагере, умирали ежедневно, ежечасно. Как я, обессиленная раной, осталась жива — не знаю. Но я жила, я выжила, выжила, несмотря на встречу, которая там произошла, с которой все и началось…
О подробностях писать не хочу, не могу, но в лагере среди пленных я как-то увидела одного человека и узнала его. Возможно, и ты бы узнал его, если бы встретил, хотя вряд ли. Но лучше тебе его не встречать. Никогда!.. Ладно. Он тоже меня узнал и сделал знак: не подавай, мол, виду. Молчи. Прошел день или два, и этот человек появился в том бараке, где жила я. Он принес кусок клейкого лагерного хлеба, шматок сала и, что было куда дороже, слова бодрости, веры в будущее. С тех пор он стал появляться часто, прикармливал меня и моих подруг, возвращал нас к жизни. Кто он, как умудрялся все это делать, мы не знали, но были уверены, что это — один из руководителей подпольной организации, о существовании которой в лагере мы догадывались. Девушки, страдавшие, как и я, радовались за меня: ведь это был мой товарищ, мой друг. Меня он выделял среди других, ради меня появлялся здесь…
Сколько прошло недель, месяцев — не знаю, не помню: я плохо тогда соображала. Но вот настал день, ужасный день, каждая минута которого никогда не изгладится из моей памяти. Еще с вечера по лагерю пополз слух, будто подпольная организация, готовившая массовый побег пленных, разгромлена, будто руководители ее схвачены.
Наступило утро. Нас всех, кто был в лагере, выстроили на центральном плацу, Мы стояли час, может быть, два. Стояли не шевелясь, под дулами автоматов и пулеметов, перед ощеренными пастями рвавшихся со сворок овчарок. Посреди площади высились виселицы, одиннадцать виселиц…
Многие из нас, кто был послабее, падали, чтобы никогда не подняться. Их пристреливали. Им, пожалуй, было легче. Но я держалась, стояла…
Вдруг послышался шум, и показались смертники — одиннадцать смертников. Боже, что с ними сталось! Они брели, спотыкаясь на каждом шагу, в изодранной одежде, в сплошных кровоподтеках, истерзанные, но не сломленные. Да, они умерли как герои.
Писать о подробностях не буду. Страшно… Но самое страшное было не это — самое страшное ждало меня впереди.
Виселицы, на которых оборвалась жизнь наших товарищей, лучших из нас, окружила толпа лагерного начальства, и вот в этой толпе я увидела того человека. Нет, он был не в кандалах и не в лагерном одеянии: на нем была форма, немецкая форма. Среди палачей он держался как равный среди равных.
Невозможно передать, что я пережила, увидя его в этом обличии. Но мучения мои на этом не кончились. Этот негодяй пошел вдоль наших рядов, кого-то выискивая. Я похолодела, поняв, кого он ищет… Увидев меня, он подошел, дружески потрепал меня по щеке и громко сказал: «Не робей, девочка, все будет в порядке», Затем прошел дальше.
Почему я не плюнула в его гнусную физиономию, не ударила его, не знаю: я просто была раздавлена, не могла шевельнуться…
Что было потом, вряд ли надо писать: если меня и не убили товарищи по борьбе, то, скорее всего, потому, что никто не хотел марать руки. Но как они меня презирали, как презирали!.. Нет, даже вспомнить об этом страшно.
Прошло несколько дней, и меня вызвали к начальнику лагеря. Там был и он, этот зверь. Нет, меня не били, надо мной не издевались. Со мной говорили как с единомышленником, со своим, и это было непереносимым. Сжав зубы, я молчала. Их, однако, это мало беспокоило, они все решили за меня.
«Фройлен Ольга, — сказал начальник лагеря, — здесь вам дальше оставаться нельзя. Завтра вас переведут в другой лагерь, там вам будет лучше. Но фамилию вам придется сменить: Корнильеву теперь знают слишком многие, вести могут дойти и до других лагерей. Отныне вы будете Величко. Ольга Величко. Запомните».
Мне было все равно: Корнильева, Величко — какая разница? Так и так я была номером, лагерным номером. Ничего, кроме смерти, я и не ждала. Но умереть мне не посчастливилось, я осталась жить, как… Ольга Величко.