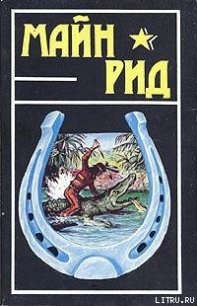Сын Альбиона (Жена-дитя), (Жена-девочка) - Рид Томас Майн (читать книги полностью без сокращений txt) 📗
Бланш Вернон бросилась на шею своего великодушного отца и прижалась к его лицу мокрой от слез щекой.
Глава LXXXII
УТЕШИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
«Никогда больше не видеть ее, никогда не слышать о ней! Я не могу ждать письма от нее. Она не смеет мне написать. Не сомневаюсь, ей это запретили. Запретил отец.
И я тоже не смею ей писать. Если я это сделаю, несомненно, пользуясь тем же отцовским правом, он его перехватит. И я потеряю последнюю надежду с ним примириться.
Не смею — и не должен!
Но почему нет? Разве это не ложное проявление рыцарства?
И разве не обманываю я самого себя? Какая власть может быть сильнее власти сердца? Только эту власть нужно принимать во внимание, когда думаешь о предложении. Кто имеет право вставать между любящими сердцами? Кто может запретить счастье двоих?
Отец утверждает, что имеет такое право, и использует его. Возможно, это разумно, но справедливо ли?
И бывают случаи, когда это не мудрость, а сплошное безумие! О, сословная гордость! Как часто ты мешала достичь счастья, сколько сердец были принесены в жертву твоим нелепым претензиям!
Бланш, Бланш! Как тяжело думать, что между нами непреодолимый барьер! Препятствие, которое не могут уничтожить никакие мои усилия, никакая борьба, никакое торжество и признание! Как это тяжело! И, может быть, это не единственное препятствие! Кто знает?»
Так рассуждал капитан Мейнард. Он был в своем кабинете, сидел за письменным столом. Но последняя мысль была слишком болезненной, чтобыон оставался в кресле. Вскочив, он принялся расхаживать по кабинету.
Он больше не думал о своем давнем предчувствии — во всяком случае, далеко не был в нем уверен. Тон размышлений и особенно последняя их часть свидетельствовали, насколько он утратил веру в это предчувствие. А все его манеры, то, как он расхаживал по кабинету, его жесты, восклицания, отчаянные взгляды, тяжелые вздохи — все это говорит о том, как много места занимает в его сознании Бланш Вернон, насколько сильно он любит ее!
— Да, это правда, — продолжал он, — она могла забыть меня! Она ребенок, и могла принять меня за игрушку. А когда игрушки не видно, о ней забывают. Будь все проклято: меня, конечно, постарались обесславить!
Как могу я верить ее обещанию, данному в минуту расставания? Кстати, оно ведь дано в письменном виде! Надо еще раз взглянуть на это сладкое письмо!..
Сунув руку в карман жилета, тот карман, что ближе к сердцу, он достал небольшой листок, который давно и бережно хранил. Развернув его, он в который раз прочел:
«Папа очень рассердился. Я знаю, что он никогда не разрешит мне снова с вами увидеться. Мне печально думать, что мы никогда больше не встретимся и что вы меня забудете. Я вас никогда не забуду — никогда!»
Чтение доставило ему странную смесь боли и радости, как и двадцать раз до этого, потому что он не менее двадцати раз перечитывал эту записку.
Но теперь боль преобладала над удовольствием. Он начинал верить в слова «мы никогда больше не встретимся» и сомневаться в двойном обещании «никогда не забыть». И продолжал в отчаянии расхаживать по кабинету.
Это занятие не успокоило его. Отвлек его граф Рузвельдт, вошедший с утренним визитом. Граф в последнее время тоже изменился. У него появилась возлюбленная, и он сомневался в том, что опекунша девушки даст согласие на брак.
В таких делах мужчины могут сочувствовать друг другу, но не принесут утешения. Только достигшие успеха могут подбадривать.
Рузвельдт пробыл недолго и был неразговорчив.
Мейнард не знал, кто предмет страсти его друга, не знал даже имени девушки. Он только думал, что это должна быть необычная женщина, если сумела вызвать такие перемены в его друге. Ведь до сих пор граф был настолько равнодушен к прекрасному полу, что даже провозгласил себя вечным холостяком!
Граф ушел спешно, но намекнул, куда идет. Мейнард заметил, что он одет с особой тщательностью, напомадил усы и надушил волосы.
Граф сказал, что собирается навестить леди. Больше того, он намерен задать ей вопрос.
Какой вопрос, он не сказал, но его старый друг заподозрил, что это предложение.
Это радостное происшествие слегка отвлекло Мейнарда от печальных размышлений.
Но ненадолго. Скоро тяжелые мысли вернулись; Мейнард снова перечел записку Бланш Вернон, которую оставил на столе.
И не успел закончить, как во входную дверь постучали. Громкий стук сообщал о появлении почтальона.
— Письмо, сэр, — доложил швейцар, войдя в кабинет.
Доставка была оплачена, Мейнарду оставалось только взять письмо.
Адрес написан джентльменом. Почерк незнакомый. Но в этом нет ничего необычного. Писатель, приобретший широкую известность, он ежедневно получал письма читателей.
Но перевернув конверт, чтобы его распечатать, Мейнард вздрогнул. На конверте был герб, который он тотчас же узнал. Это был герб Вернонов!
Он судорожно распечатал конверт.
Пальцами, дрожащими, как листья осины, расправил лист бумаги, на котором тоже был герб.
Постепенно успокаиваясь, Мейнард прочел:
«Сэр,
Вашими последними словами были: «Надеюсь, настанет день, когда вы не так строго будете судить мое поведение». Если верно припоминаю, я ответил: «Маловероятно».
Я старше вас, и поэтому казался себе более мудрым. Но и самые старые и мудрые могут ошибаться. Я не считаю унижением признаться, что ошибался — и ошибался относительно вас. И если вы согласны простить мое грубое — я бы даже сказал, варварское — поведение, я с удовольствием принял бы вас в качестве гостя. Капитан Мейнард! Я очень изменился с тех пор, как вы в последний раз меня видели — изменился и душой, и телом. Я на смертном одре, и хотел бы повидаться с вами до того, как расстанусь с этим миром.
Есть еще кое-кто, кто сейчас смотрит на меня и хочет вашего приезда. Приезжайте!
В тот же день в дневном поезде, уходящем из Лондона на Танбридж Уэллс, сидел пассажир. Он заказал билет до «Семи Дубов» в Кенте.
Звали этого джентльмена Мейнард!
Глава LXXXIII
ОБА ОБРУЧЕНЫ
Прошла неделя с той последней встречи графа Рузвельдта и капитана Мейнарда в кабинете последнего, и они снова оказались в той же комнате.
Но обстоятельства изменились, и об этом свидетельствовала их наружность.
Оба казались такими веселыми и сияющими, словно вся Европа стала республикой!
Они не только казались, но и были веселы, и у обоих были на то причины.
Граф вошел. Капитан только собрался уходить.
— Какая удача! — воскликнул он. — А я собирался вас разыскивать.
— А я пришел в поисках вас! Капитан, мы могли с вами разминуться! Я бы и за пятьдесят фунтов не хотел этого!
— А я за сто, граф! Вы нужны мне по чрезвычайно важному делу.
— А мне вы нужны по еще более важному.
— Вы с кем-то деретесь, граф? Мне жаль. Боюсь, я не смогу вам помочь.
— Оставьте свои сожаления при себе. Скорее вы попали в такую переделку. Pardieu! Я прав?
— Совсем наоборот! Но я все же попал в переделку, как вы говорите, хотя и гораздо более приятную. Я женюсь.
— Mein Gott! Я тоже!
— Значит, она согласилась?
— Да. А ваша? Но мне не нужно спрашивать. Это та золотоволосая девочка?
— Я ведь сказал вам когда-то, граф, что эта девочка будет моей женой. И теперь имею счастье подтвердить это.
— Mere de Diru! [172] Замечательно! Отныне я верю в предчувствия. У меня тоже было предчувствие, когда я впервые увидел ее.
— Ее? Вы имеете в виду будущую графиню Рузвельдт? Вы мне так и не сказали, кого удостоили этой чести.
— Скажу сейчас, cher capitaine, [173] потому что другой такой милой, красивой и достойной девушки вы не видели. Вы все равно удивитесь, когда увидите ее. Но только, когда мы будем стоять перед алтарем. Я как раз пришел просить вас об этом.
172
Матерь Божья! (фр.).
173
Дорогой капитан (фр.).