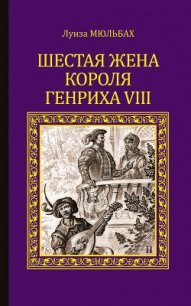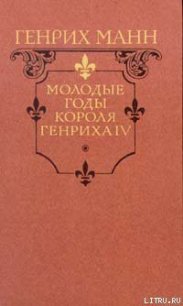Тунеядцы Нового Моста - Эмар Густав (полные книги .txt) 📗
Несколько секунд длилось молчание.
Графиня выпрямилась; ее лицо было бледно, как мрамор; она была хороша, как древняя Ниобея.
— Оливье, — с грустью промолвила она, — я вас очень любила, но вы были безжалостны и разбили мое сердце, отдав себя в руки этой недостойной женщины, которая теперь смеется, слушая нас. Разлука, которой вы требовали, должна быть вечной. Что же касается этой женщины, вашей любовницы, Оливье, вы позволите, чтоб я ее выгнала из дому, но завтра, может быть, захотите снова с нею сойтись.
Граф, не отвечая, опустил голову. Жанна твердо подошла к Диане.
— Вам нечего больше здесь делать, — проговорила она, — вы признались в вашей гнусности, мне, кроме этого, ничего не надо теперь, — прибавила она, величавым жестом указывая на потайную дверь, — не отравляйте же своим присутствием воздух, которым мы дышим. Выйдите вон, женщина без чести и совести, я вас выгоняю!
— Милостивая государыня! — прошипела та с угрозой в тоне.
— Выйдите вон, говорят вам!
Эти слова были произнесены так повелительно, что Диана стала невольно отступать шаг за шагом к самой двери, в которой споткнулась и упала почти без чувств на руки двух замаскированных людей, произнеся, однако, глухим голосом:
— О, Боже мой! Я отомщу!
Графиня заперла потайную дверь и медленно вернулась к тому креслу, на котором раньше сидела возле герцогини де Роган, как бы не замечая графа, все еще стоявшего на одном колене, с закрытыми руками лицом.
Прошло несколько минут молчания.
Граф приподнялся и подошел к жене.
— Жанна, — сказал он, — я знаю, что совершенное мною относительно вас преступление громадно; но неужели оно непоправимо? Забыли вы разве прошлое счастливое время?
— Мы видели только сладкий сон, Оливье; как все сны, и этот оказался лживым. Минута пробуждения настала скоро, слишком скоро, к сожалению! Это было ужасное пробуждение, оно разбило мне сердце и лишило меня надежд в будущем. Вы молоды, Оливье, вы можете полюбить и, наверное, полюбите.
— О, Жанна, что вы говорите!
— Одну правду, Оливье, ничего больше. Вы мужчина и, как все вам подобные, имеете забывчивое, эгоистическое сердце; будучи безжалостным за мнимые оскорбления, вы ставите ни во что те, которые не побоялись нанести мне. Ваша любовь, Оливье, зародилась не в сердце, но в голове. Вы хотели объяснения? Извольте! Оливье, объяснимся раз и навсегда, потому что, повторяю вам, мое решение принято; все кончено между нами.
— Жанна! Умоляю вас, не говорите так!
— Для вас, Оливье, и для себя я должна быть откровенна. Отказываетесь выслушать меня? Если так, друг мой, я буду молчать.
— О нет, Жанна, говорите, говорите, ради Бога.
— Вы хотите! Отлично! Хотя это объяснение очень тяжело для нас обоих, выслушайте меня; я буду откровенна, скажу вам все в присутствии своего друга, единственного друга, оставшегося мне верным. Впрочем, вы сами знаете ее, не правда ли? Это баронесса де Серак, или Мария де Бетюн, герцогиня де Роган.
— Пощадите меня, Жанна!
— Для чего вы употребляете подобное выражение? Герцогиня, мне кажется, невольно играла такую важную роль в этой мрачной трагедии, что вы не должны содрогаться при ее имени.
— Это правда, Жанна, я был виноват перед вами и перед герцогиней также; сознаюсь в этом и обвиняю себя.
— О, граф! — произнесла герцогиня с горькой усмешкой. — Я не имею ничего против вас. Я с давних пор привыкла к изменам герцога и, более твердая, чем моя подруга, достигла способности переносить все равнодушно. Что делать, граф? Если мужчины все так схожи между собой, так женщины не таковы. Одни, как я, смеются над своими страданиями, другие, как Жанна, умирают от них. Говори, моя дорогая, мы слушаем тебя.
— И я прошу вас о том же, Жанна; что бы вы ни говорили, мне будет отрадно слышать ваш голос.
Графиня горько улыбнулась.
— Оливье, — начала она, — когда два сердца перестали понимать друг друга, так это уже не изменится; что бы ни делали, что бы ни говорили, как бы ни старались, а любовь не вернется.
— Жанна, Жанна, что вы говорите?
— Правду, Оливье; женщина, подобная мне, никогда не прощает мужчине презрения. Иногда по долгу и из приличия или из самолюбия и стараются себя обмануть, надеясь сохранить за собой прежнее счастье, но вскоре затем убеждаются в бесполезности всех усилий и тогда падают под тяжестью несбыточных надежд. Любовь — своего рода сумасшествие; она приходит и уходит сама по себе, и в последнем случае любовники начинают ненавидеть друг друга. Мы уже давно не виделись, Оливье, — несколько месяцев. Сегодня вы случайно увидели меня, нашли меня красивой, потому что я действительно хороша, лучше той, для кого вы мне изменили. Эта красота, которой вы почти не замечали прежде, поразила вас, и, может быть, вы любовались ею больше, чем когда-нибудь. Говорят же, что нет вкуснее запрещенного плода. Не буду больше говорить об этом, вы понимаете меня, Оливье? Выдумаете, что любите меня; чтобы провести теперь со мной один час, чем прежде пренебрегали, вы пожертвуете всем, даже своим состоянием, если бы это понадобилось. Но нет, Оливье, вы ошибаетесь, вы не любите, а только желаете меня, вот и все.
— О, Жанна, Жанна!
— И почему? — горько продолжала она. — Потому что женщина, к которой вы относились, как к маленькому ребенку, черпавшая жизнь из ваших взглядов и вашей любви, была, по вашему мнению, пустой; теперь же она представилась совсем другой: спокойно и гордо, не опуская взгляда, она стоит перед вами и требует отчета за свое потерянное счастье и разбитое будущее. Эта женщина отдалась вам вся; она жила только для вас и вами… Вы ее бросили, как перо, на ветер. Сколько раз в Моверском замке, где я жила в полном одиночестве, вы без всякой причины устраивали мне смешные сцены ревности! Сколько страдания причиняли мне вашим подозрительным характером! Я не хочу этого больше. Вы требовали разлуки, пусть будет по-вашему!
— Хорошо, Жанна, я признаю ваш приговор; я очень виноват и готов нести кару за свою вину, произошедшую только вследствие неограниченной любви моей, которую вы отвергаете, тогда как мое сердце переполнено ею, как в первые дни нашей брачной жизни! Но если вы не любите меня, для чего было звать меня сегодня сюда, в этот дом?
— Для чего?
— Да, для чего?
— Для того, чтобы отомстить вам, Оливье, доказать прежде всего ложность ваших обвинений, затем неприличие вашего поведения; чтобы вы видели разницу между мной и тварью, которую вы мне предпочли. Вы думаете, Оливье, что мы, набожные женщины, матери семейств, не имеем также своей гордости? Прежде всего вы нанесли мне оскорбление как женщине, заставив вступить в борьбу с подобной тварью.
— Я не буду пробовать защищаться. Я обезоружен; все, что вы говорили, совершенно справедливо, и я должен склонить голову; но я отомщу со своей стороны, отомщу своим чистосердечным раскаянием, которым добьюсь вашего прощения.
Графиня не отвечала.
— Я ухожу, Жанна, — прибавил граф, помолчав секунду, — я чувствую, что присутствие мое вам тяжело, и хочу поскорее избавить вас от него. Позволите вы мне возвращаться — иногда, изредка…
— Никогда!
— Окажите мне одну милость, одну только!
— Что вы хотите, Оливье?
— Дайте мне поцеловать своего сына, моего Жоржа.
— Нет, граф; я не могу позволить вам прикоснуться к его лбу губами, еще влажными от поцелуев этой твари.
— Жанна, прошу вас…
— Нет, Оливье, — горько отвечала она. — Не настаивайте, это невозможно. Я могу сделать только одно, если вы хотите…
— Что же?
Из-под платка, лежавшего на столе, графиня взяла медальон и, показывая его графу, сказала:
— Узнаете вы его, Оливье? Это мой портрет, который я вам дала в день рождения нашего Жоржа, портрет, который вы поклялись носить вечно у сердца, и вместо того за поцелуй отдали женщине, приславшей его после мне. Этот портрет я повешу на шею вашему сыну, чтобы смыть с него позорное пятно.
— О, вы безжалостны! — крикнул в отчаянии граф и бросился, как сумасшедший, из комнаты.