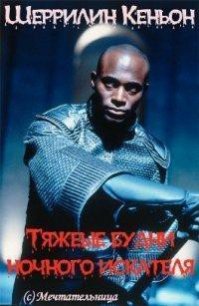Мир “Искателя” (сборник) - Аккуратов Валентин (лучшие бесплатные книги .txt) 📗
Видно, и Чепуриха то чуяла, потому что в редкие наши разговоры она никогда меня не отговаривала, а только вздыхала.
“Я б далеко ушла, на самый край света, за новой жизнью, да боюсь”.
“А чего? Ты ж вроде не из пугливых. Живешь одна, даже злыдней не боишься”.
“Смерти я боюсь, вот чего. Тут уж не верю, а знаю: уйду отсюда — и скоро помру. Потому и держусь”.
А почему — опять не сказала.
Уже перед осенью сидели мы на берегу, слушали, как море глину перемывает, и Чепуриха вдруг разговорилась.
“Откуда я знаю, почему рыба придет? А от земли… Земля мне рассказывает. — Она помолчала и бросила ракушку жемчужницы в воду. Ракушка скользнула по волне, зачерпнула краешком и пошла на дно. — Заметил — без звука утонула? Вот так и мне земля рассказывает — без всякого звука. Тишиной”.
Должно быть, у меня был глуповатый вид, потому что Чепуриха рассмеялась — звонко и неудержимо. И тут в ее глазах мелькнуло то самое выражение простоты, открытости и чистоты, которое я так долго ждал.
“Думаешь, сумасшедшая? И то верно — на слово в такое не поверишь. Пойдем, сам послушаешь”.
Она вскочила с прогретого за день песка и, не оглядываясь, пошла к балке. Пс тропинке мы поднялись чуть выше ее халупы, потом спустились на самое дно балки и подошли к яме.
Таких ям в наших местах много. Из них хозяйки берут глину на подмазку саманных домов, на затирание земляных полов. Эта яма была большая, просторная — видно, глину из нее брали давно. Чепуриха остановилась и взяла меня за руку.
“Как прихожу сюда за глиной, так притаюсь и жду. Земля поначалу молчит, а уж потом, как прислушаюсь, из нее поднимается шум. Ровный, спорый, словно из большой морской раковины. Понимаешь, шумит тишина. Шумит и шумит. А в иные дни бывает так, что шум усиливается, и получается гул. И — щелчок. Далекий такой, неверный щелчок, а потом — снова гул. Гудит, гудит… И все в тебе сдавливается, сердце замирает, а на душе становится не то страшно, не то прекрасно. Вся ты словно уже не тут живешь. Мысли какие-то странные, точно молодые, радостные, но вся ты не то что старой становишься, а умной очень. До самого последнего лоскутика все понимаешь. Потом гул затихает, сердце отпускает, и тишина опять начинает шуметь. Шумит, шумит… Как в раковине. И словно бы та раковина в тебе самой. Нет, ты сам послушай. Такому поверить на слово невозможно”.
Мы залезли в яму, сели на корточки и притулились спинами и затылками к мягкой прохладной глине. Медленно умирали звуки, которые мы принесли с собой, и постепенно приходила полная, совершенная тишина. Она жила несколько минут, а может быть, и секунд, потому что время здесь, как, должно быть, в межпланетных полетах, двигалось по иным законам.
Потом из тишины стал прорезываться шум. Не гул, а именно шум. Потому что гул — это ровный звук, на одной ноте, а шум — это разноголосица, точно где-то глубоко под землей, а может, в стороне работают машины, или вразнобой бьют волны, или шумит далекий базар.
Мы долго прислушивались, и я, помню, стал даже различать в этом общем шуме как бы отдельные гулы. Сердце стало замирать, и от этого замирания на душе и в самом деле становилось не то страшно, не то прекрасно. Опять пришли мысли — очень умные, прозорливые, но какие именно — сказать было трудно: не хватало во мне чего-то. Это уж теперь я понимаю — не хватало знаний. Ведь чтобы понять собственные мысли, нужно сравнить их с чем-нибудь.
Когда мы вышли в балку, я и в самом деле чувствовал себя помолодевшим — тело стало легким, звенящим, упругим. И умным, мудрым. Словно передо мной открылось то, что недоступно другим.
“Ну вот, — задумчиво сказала Чепуриха, — сам слыхал и сам пережил. А что это такое — не знаю. Только знаю, когда шум вдруг усилится так, что с потолка той ямы начинают сочиться подсохшие глининки, — я жду сильных щелчков. В эти дни я из ямы не вылезаю — сижу и жду. Как только услышу такие щелчки — так и бегу к вам звать на разбой. Позову, а сама ухожу в степь. Иду, кружусь, петляю и просто сама чувствую — молодею я. Молодею — и все тут! Что-то делается во мне невероятное, такое, что я и б самом деле верю — сидит под нашим бугром черт и чего-то наколдовывает. И мнится мне, что рыба приплывает к нам как раз за тем, чтобы послушать, что ей этот самый черт наколдует”.
Чепуриха вздохнула и сникла: она показалась грустной и мудрой.
“Потом все проходит, я возвращаюсь и потихоньку начинаю стареть. Старею, старею, а все не состарюсь. Ты думаешь, сколько мне лет?”
Она смотрела строго и отчужденно, словно в суде, ожидая приговора. Я смутился и пробормотал, что, наверное, за сорок.
“За сорок”… — передразнила она. — Мне, милый ты мой малыш, скоро уже семьдесят стукнет. А я вон какая. В церковь сходить и то неприятно: мужики косятся. Хоть бы поослепли все до одного, кобели несчастные”.
Столько горечи и злобы неожиданно прорвалось в ней, что я растерялся. Чепуриха отвернулась и долго смотрела на еле заметные тогда таганрогские огни.
“Ушла бы отсюда, новую бы жизнь наладила, но чувствую — не уйти. Как привязанная здесь живу”.
“Почему?”
“А потому, что умирать мне не хочется. Понимаешь? Жизнь — уж больно интересная штука. Вот и вижу мало, а интересно. И еще… Еще хочется мне узнать, что же это сидит там, под бугром. — Она прижала руки к груди и страстно выдохнула: — Очень хочется! — И, словно застыдившись себя, сердито закончила: — Вот оттого и сижу здесь!”
…Старик умолк, и мы долго смотрели на теплое стекло воды. Залив был загадочно умиротворен, и впервые мне показалась неприятной эта умиротворенность. Я нетерпеливо спросил:
— А дальше что?
— Что ж дальше? Еще с месяц я просидел возле Чепурихи, послушал подземного черта, а когда отец поднял на меня руку, ушел. Нанялся матросом, кочевал. Потом война, революция, партизанил на Дальнем Востоке, учился кое-чему. Там и осел — тоже, доложу я вам, удивительный край. Потом вышел на пенсию, и времени думать у меня стало много. Лежишь под утро, не спится, и начинаешь вспоминать. И вот как раз под такую раздумчивую минуту я услышал, что наша ракета ушла в сторону Венеры. И я подумал…
Даже не подумал, а представил — лежит сейчас наша ракета где-нибудь на Венере, а приборы на ней работают. Работают и шлют свои сигналы, которые мы поймать не можем, а тамошние, венерианские, обитатели приплывают к берегу и слушают их. И слушают не ушами — может быть, ушей у них еще и нет, а всем своим телом, каждой своей клеткой. Ведь, как вы, вероятно, знаете, красная рыба — осетр, белуга, севрюга, стерлядь — старейшие рыбы на нашей Земле. Как они умудрились не измениться, я не знаю, но факт остается фактом: они самые древние обитатели нашей планеты. Улавливаете, что я хочу сказать?
— Вы думаете, что и под Чертовым бугром лежал какой-нибудь космический корабль, который излучал сигналы? Рыба чувствовала их телом, клетками и приплывала слушать эти сигналы?
— Вот именно. Известно же, что рыба реагирует и вроде бы даже переговаривается между собой с помощью всяких там ультразвуков. И даже с помощью ею же создаваемого магнитного поля.
— Фантастично, но… логично.
Старик оживился и уже смелее, возбужденный, заговорил, как о чем-то близком и выношенном:
— Вот именно эта логичность меня и убеждает. Как мы теперь, так когда-то другие мыслящие существа задумали отправиться на соседние планеты. Но они понимали, что наблюдение за такими планетами с помощью даже совершенных приборов еще не может дать для них достаточно материала. И прислали добросовестного автоматического разведчика. Он должен был сообщить, вероятно, немногое — есть ли кислород или другой необходимый состав газов на нашей планете, температуру ее- поверхности, может быть, некоторые особенности жизни. Я даже допускаю, что на нем были телевизионные установки. Разведчик прилетел, приземлился в центре огромного материка и начал добросовестно передавать сигналы. Но пока они долетели до пославших, прошли годы, а может быть, и века. А тут на Земле случилась катастрофа, и разведчик погрузился в новое море. На него осаживались песок и глина, но он все слал и слал свои сигналы, верно и точно выполняя свою службу. Потом морское дно поднялось, вода отступила, и он оказался под бугром.