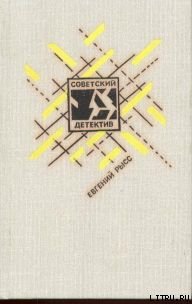Шестеро вышли в путь - Рысс Евгений Самойлович (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации TXT) 📗
Думаю, что соболя и каменья — некоторое преувеличение. Вероятно, тут дядя позаимствовал что-то из сказок, а не из реальной жизни. Речь идет о местных лавочниках и кулаках, о председателе какой-то артели, заведующем уземотделом и уездным Леспромхозом. Откуда тут быть соболям и каменьям!
— «Они» в три горла жрут и пьют! — говорит дядя со страстью, и худые его руки трясутся и глаза сверкают. — Жиры нагуливают, кровь пьют из бедных людей, дармоеды.
Он ударяет кулаком по столу. Прыгает деревянная чашка, трясется керосиновая лампа под потолком.
Слушатели совершенно спокойны. Дети смотрят внимательно, но без большого интереса. К отцовским разговорам они, видно, привыкли.
По рассказам дяди, картина в уезде такая: мироеды (это слово он очень любит) во главе с Катайковым, извергом и кровопийцей, захватили все. В их руках кооперация, потому что они купили руководителей. В исполкоме они первые люди, и все им идут навстречу. У них круговая порука, через которую не пробьешься, заговор против всех бедняков, против самой советской власти.
— Точат, точат стропила! — гремит дядя. — Подтачивают столбы острыми зубками! Гляди только, чтоб на них не рухнула крыша. Терпит, терпит народ, да и встанет, пойдет на обидчиков!
О чем, собственно, говорит дядя, понять трудно. С какого-то богатея сняли налоги и незаконно обложили каких-то бедняков. Какие-то землемеры кого-то обмерили и кому-то прирезали лишнее. Вспомнив о каждом таком случае, дядя впадает в ярость, и, кроме проклятий и угроз, ничего нельзя разобрать.
— Гремлю на всех собраниях, — говорит дядя, — обличаю неправду. Заметки в стенных газетах печатаю разоблачительного содержания. Семь заметок в губернской газете помещено было, и на двенадцать мне в почтовом ящике пропечатали ответ, что, мол, указано разобраться на месте. Подписываюсь «Оса», «Жало», «Лапоть», «Зоркий», «Око» и еще кое-как. Всеми манерами обличаю неправду, да разве услышат мой голос, когда кругом всё купленные дружки! На тысяче столбов неправда стоит. Ничего, все перерубим!
Он берет холодную картофелину, сваренную в мундире, переламывает ее и окунает в соль.
— Ты ешь, угощайся, — говорит он приветливо и кладет картофелину назад.
Он, наверное, голоден. Но ему интереснее говорить про неправду новому человеку, который еще не знает о ней. Другим он много раз говорил, они уже не хотят слушать.
— Мне есть не хочется, — говорю я. — Я на пароходе позавтракал.
Не то что дядя верит или не верит мне, он просто пропускает мои слова мимо ушей. Ему важно одно — обличить неправду.
А вот глаза моей тетки меня смущают. Она смотрит на меня прямо и спокойно, но я чувствую, что она все понимает. А мне сейчас кажется, что всю жизнь больше всего я любил картошку, и именно холодную, сваренную в кожуре, и именно с такою вот темной крупной солью.
— Грянет, грянет гром! — говорит дядя. — Увидят они, как народ обижать, раскаются, да поздно будет...
Меня удивляет, что дядя ни слова не говорит о себе. Ведь, наверное, его обидели больше других: достаточно взглянуть на щели в полу, на четыре картофелины, на его худые, трясущиеся руки.
Я спрашиваю его:
— А вас, дядя, тоже обижали?
И, к моему удивлению, он отвечает очень спокойно:
— Меня обижали за дело. Я с ними воюю. Для меня их обида — почет. Вот видишь — отовсюду повыгоняли. Месяц поработаю, пригляжусь и начинаю правду рубить. Сперва на собрании выступлю, а там, глядишь, «Оса» в стенной газете поместила заметку, а там «Зоркий», «Око», «Жало», а там некто «Лапоть» в губернскую газету про неправильные действия написал. Революцию, мол, для чего делали? Царя и помещиков, прихвостней его, для чего сбрасывали? Чтоб крестьянину хорошо жилось, чтоб его не экс... эксплуатировали. А они правды не любят, боятся. Вот и гонят меня отовсюду...
— Подождите, дядя. Вы же фамилию свою не подписываете? То «Зоркий», то «Жало»... Откуда же они знают, что это вы?
— А я им сам говорю, что это я написал. — Дядя радостно улыбается, будто здорово насолил своим злодеям. — Пускай знают. А как же! Я этим горд. Про меня кого хочешь в уезде спроси — любой скажет: «Беспокойный человек Николаев». И буду беспокойным! Народной правды добьюсь, которую деды нам завещали. Добьюсь, хоть сам с голоду умру и дети умрут!
Я посмотрел на детей. Они сидели молча, спокойно, видимо совершенно готовые к ужасной участи, их ожидавшей.
— Ты бы, Коля, — вмешалась вдруг жена, — спросил бы племянника, надолго ли к нам, по делу или так просто.
Я представил себе, как она волновалась все время. Я поспешил ее успокоить.
— Дружок у меня тут есть один, — сказал я. — Пригласил погостить, ну я и подумал: заодно и вас повидаю.
— Дружок? — насторожился дядя. — А кто такой? Я, верно, знаю. Я тут всякого человека знаю.
— Леша Иванов, — сказал я наудачу.
— А где живет?
— Тут у реки. Я улицу не запомнил. Он меня на пристани встретил.
— Алексей Иванов? — задумался дядя. — По отчеству как? Не помнишь?
— Не помню.
— Есть Алексей Иванов, продавец в кооперативе. Вор... Да нет, тот, пожалуй, не годится тебе в дружки. Есть еще Алексей Иванов — сторож на крупорушке. Купленный старик. Сапожник есть Алексей Иванов. Хороший человек. Беднота. А больше не помню.
— Ты, Коля, расскажи племяннику про Малокрошечного, — вмешалась жена.
Она хотела меня выручить. Она хорошо знала своего мужа. Глаза его загорелись с новой силой.
— Пять братьев их, Малокрошечных! — сразу начал греметь дядя. — Отец их, Степка Малокрошечный, неправедный был человек, известный грабитель. Пять сынов вырастил — один другого похлеще. Все один к одному. Грызут, грызут мелкими зубками советскую власть, подгрызть думают. Один при Катайкове крутится, один в Куганаволоке лавочку держит, рыбаков обирает, один в Сердечной избушке трактир открыл, проезжих грабит, один в Каргополе. Пройди по уезду: большие пауки — это одно, а при них маленькие кровопийцы. Пять братьев Малокрошечных — самые первые, грызуны проклятые!
Может быть, слово «грызуны» заставило меня догадаться. Я твердо уверился, что один из Малокрошечных был рядом с Катайковым в пароходной каюте. Когда я потом узнал, что это действительно так, я ничуть не был удивлен.
— Ну, я пойду, — сказал я вставая.
— Пойдешь? — Дядя тоже встал. — Ну ладно. Я тебя провожу, пожалуй... Посмотрю, что за Алексей Иванов. Хороший человек или паук. А то попадешь на паука — он кровь всю и высосет.
Жена тоже встала.
— Нет, Коля, — сказала она спокойно, — ты не пойдешь, ты ложись отдохни... Верите ли, всю ночь не спал, все по двору ходил взад-вперед. Волнуется очень.
Дядя вдруг улыбнулся доброй, ласковой улыбкой.
— Всё планы строю, — сказал он, как бы подшучивая сам над собой, — всё думаю, как сокрушить кулацкую силу, которая даже в самые недра советской власти вгрызается.
— Так ты ложись, — спокойно сказала жена, — а я пойду провожу племянника.
— Проводи, проводи, — согласился дядя. — Я и вправду стомился... Ты, Коля, слушай Марью Трофимовну. Она людей понимает. Она сразу скажет тебе, что за Алексей Иванов. И приходи. Я тут такого тебе расскажу про наши дела в уезде...
Марья Трофимовна пошла за печку и, провозившись минуту, вышла оттуда одна, без младенца. Видимо, младенец был уложен в колыбель или просто на лавку. Он и при этом не издал ни звука, и я представил себе, как он лежит там один, молчит, смотрит в потолок, думает недетскую думу.
Мы с Марьей Трофимовной вышли. Четверо детей, не двигаясь, проводили нас взглядом. Думаю, что, как только закрылась дверь, они бросились делить четыре холодные картофелины. Черная кошка посмотрела на нас зелеными глазами, петух, печальный холостяк, переступил с ноги на ногу. Мы вышли на улицу.
Мне было все равно, куда идти. Марья Трофимовна свернула направо, и я зашагал за ней. Мы долго молчали, потом она вдруг спросила:
— Куда же вы пойдете?
Как я и думал, она понимала, что мне идти некуда. Она знала и то, что мне нечего есть, потому что сразу сказала: