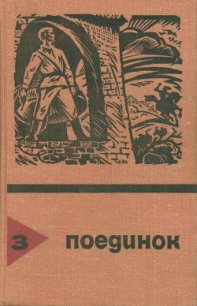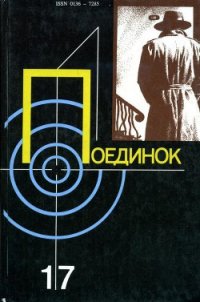Поединок. Выпуск 9 - Акимов Владимир Владимирович (книги бесплатно читать без .txt) 📗
— И все? Маловато. Если бы каждый уходил из жизни по этой причине, добрая треть человечества исчезла бы с лица земли.
— Я говорю о настоящей, редкой любви, а не о простом сожительстве, пошлой привычке, которую принимают за любовь… Кстати, Кондаков пытался повеситься в первые дни, когда его покинула жена.
— Вот это очень и очень важно. Он сам вам рассказывал? Пожалуйста, вспомните все подробности разговора.
— К чему все это? Левы нет и никогда его не будет, понимаете?..
Следователи улетели. Павел так и не понял, какая из двух версий показалась им более аргументированной.
В далекое рязанское село Лаврентьевское полетела телеграмма, сообщавшая о смерти маршрутного рабочего Льва Кондакова. В телеграмме еще просили ответить: переправлять ли тело в Лаврентьевское или похоронить погибшего здесь, на Крайнем Севере? Ответ пришел от бывшей жены Льва Кондакова и походил на приговор: «Похоронить на месте». Очевидно, близких родственников у него не было.
Недалеко от лагеря мощным взрывом аммонита в гранитной породе вырыли могилу, из жердей лиственницы сколотили гроб. Стоя над могилой, женщины поплакали, мужчины хмуро покурили. Могилу засыпали, в изголовье перенесли валун пудов на десять и написали на нем белой масляной краской:
«Лев Кондаков. Трагически погиб в маршруте».
Павел пожелтел с лица, осунулся. Это отметили в партии. Приходя из маршрута, он не вел длинных разговоров со Станиславом, сокровенные беседы с глазу на глаз, которые он так любил раньше, сейчас раздражали его, казались пустой тратой времени. Несколько раз Павла видели неподвижно сидящим возле могилы Кондакова.
Как-то вечером в палатку вошла медсестра с чемоданчиком в руке. Она измерила Павлу температуру, давление, прослушала со стетоскопом. Температура оказалась нормальной с точностью до десятой доли градуса. Давление — идеальное. В легких не было хрипов.
— Он абсолютно здоров, не понимаю, чем вызвано ваше беспокойство? — пожав плечами, сказала потом медсестра геологам и рабочим, по просьбе которых она осматривала Павла.
И медсестра была права: физически Павел был совершенно здоровым человеком. Но ежеминутно, и днем и ночью, с поразительной ясностью, мельчайшими подробностями, как наяву, в памяти Павла всплывала сцена: Лева сидит на берегу реки, изливает душу — косноязычно, размахивая руками, говорит о том, что мертвой тяжестью лежало на сердце многие месяцы. Особенно не давали покоя его глаза, ищущие человеческого сострадания, обыкновенного человеческого сострадания, и ничего больше. Маленькие, невыразительные, некрасивые, они преследовали Павла повсюду, сводили с ума. В маршруте он откалывал образец — с осколка камня глядели эти глаза; разговаривал с кем-либо, и глаза собеседника непременно напоминали ему глаза Левы.
«Если бы, если бы, — мучительно думал Павел, — я тогда просто выслушал его, даже не пытался бы успокоить, лишь посочувствовал вниманием, может, и не было бы такого исхода? Он бы сейчас ходил, дышал, видел солнце?»
— Да при чем здесь я?! — бормотал он. — Разве я убивал Леву? Я, который, как все говорят, мухи не тронет?
«Нет, какой же ты убийца, — саркастически усмехался в ответ кто-то внутри Павла. — Ты хуже. Человек, чело-век находился у последней черты, над обрывом, и ждал, что ты протянешь ему руку помощи. Но ты протянул руку для того, чтобы толкнуть его в пропасть».
— Но я не знал… — пытался противоречить себе Павел.
«Не лги мне, Павел, мне невозможно лгать, — опять усмехаясь, перебивал беспощадный «кто-то». — Дело в том, что ты все ЗНАЛ и убил сознательно не пулей, а ленью душевной, полным равнодушием к страданиям человека».
Если бы… Если бы… Эти бесконечные «если бы» мучили и преследовали Павла даже во сне.
Если бы… Если бы… Особенно часто вспоминалась Люба, которую уволил Турчин, ее тонкие бледные руки, неоформившееся, угловатое тело подростка. Очевидно: Турчин не имел никакого права так обращаться с Любой, поступил с нею, как махровый невежа. И если бы Павел в решающий момент не помалкивал подленько, а высказал то, что думает о нем он и другие, может, все обернулось бы иначе, и Люба не испытала потрясения, которое, безусловно, не прошло для нее бесследно?
— Если бы… Если бы… — сидя возле Левиной могилы, шептал Павел, обхватив голову руками.
Его тянуло сюда, к этой могиле, с непреодолимой силою, как преступника тянет на место совершенного им преступления. Глаза Левы стояли перед глазами Павла, временами он даже слышал его глуховатый неласковый голос. «Лев Кондаков. Трагически погиб в маршруте», — читал и перечитывал геолог грубо написанные масляной краской слова на валуне-обелиске и шептал, качая головою:
— Нет, надпись должна быть другой, другой…
В. ПШЕНИЧНИКОВ
ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ
— Ковалев! Лейтенант Ковалев! Василий! Да отзовись ты…
Он не сразу понял, кого окликали, и продолжал пристально наблюдать за летным полем. Там, в невесомом мареве, то укорачиваясь, то удлиняясь от знойных испарений, набирал обороты «Боинг». Едва заметные на расстоянии крапинки иллюминаторов, дрожа, поблескивали на солнце. Казалось, толстобрюхий самолет никогда не взлетит, так долго длился его разбег. Наконец у самой кромки взлетной полосы, за которой начинался лес, «Боинг» тяжко поднялся, подобрал шасси и косо потянул в вышину, оставляя за собой грязно-бурый след и надрывный удаляющийся грохот.
— Ковалев! Заснул, что ли? Зову, зову…
Не оглядываясь, Ковалев по голосу определил: Ищенко. Даже будто бы увидел из-за спины красное, распаренное лицо своего друга, его сердито надутые губы. Ковалев неотрывно смотрел, как стремительно пропадал, превращаясь в точку, большегрузный лайнер. Потом облегченно вздохнул, снял фуражку, изнутри вытер платком дерматиновый ободок тульи.
— Чего искал-то, Микола? — Ковалев повернулся.
— Тебя вызывает полковник.
Ковалев на мгновение приостановился, оглянулся назад, словно растаявший в небе «Боинг» мог каким-то чудом вернуться и занять прежнее место на полосе. Но от самолета не осталось уже и следа.
Ковалев обязан был проследить за отлетом «Боинга», на борту которого находился выдворенный за пределы Советского Союза иностранный турист. Всего три часа пробыл он на нашей земле, а ощущение осталось такое, будто трое суток. Неприятное ощущение.
…Турист этот прибыл утренним рейсом, в пору, когда остывший за ночь асфальт еще не успел накалиться до духоты, а трава на газонах до неправдоподобия натурально пахла травой, не сеном. Ковалев любил этот переломный час перехода утра в день, любил за особый настрой души, всегда возникавший в нем от ощущения, даже ожидания обязательной неповторимости и многообещающей новизны. Да и голову еще не ломило, не сдавливало от гигантского напряжения, которое человек почти неизбежно испытывает во всяком большом современном городе. Ковалев замечал: что-то происходило с людьми в скоротечные эти мгновения. Они как бы заново нарождались на свет, были менее раздражительны, заботливей, бережливей относились друг к другу.
Именно таким удивительным утром самолет иностранной авиакомпании и доставил на нашу землю заокеанского туриста.
Поначалу никто не обращал особенного внимания на общительного пассажира: мало ли восторженных людей путешествует по всем точкам земного шара?
Турист лип буквально ко всем: то надоедал разговорами своему пожилому соотечественнику, страдавшему одышкой, то радостно протягивал контролеру-пограничнику через стойку кабины пустяковый презент — пакетик жвачки, в приливе чувств даже готов был его поцеловать, то кинулся помочь какой-то растерявшейся старушке заполнить таможенную декларацию и вовсе запутал, сбил ее с толку. С таможенником, когда подошла его очередь предъявлять багаж на контроль, заговорил на едва понятном русском так, словно они были старинными приятелями, лишь вчера расстались после пирушки, и теперь им необходимо вспомнить подробности весело проведенного вечера.