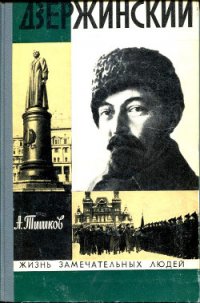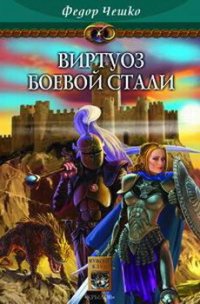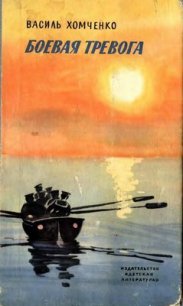Хранить вечно - Шахмагонов Федор Федорович (смотреть онлайн бесплатно книга TXT) 📗
Мы долго не сводили с него глаз. Он уходил по пустынной улице. Остановился у перекрестка. Оглянулся. Помахал нам рукой и исчез, как будто его и не было.
Сутками позже в город вошла Красная Армия.
Окна нашего дома выходили на просторную площадь. Мы с Марией не решились спуститься вниз на улицу.
Ожил пустынный город. Значит, немногие ушли на запад.
Осенние цветы дождем осыпали мостовую. По ним, как по ковру, катились гусеницы танков… Танков! Русских танков, русского производства. Кто бы мог продать русским такие танки? Я знал все конструкции мира, кроме советских. Таких нигде не было. И моторы у них работали бесперебойно, и броня на них и издалека виделась прочной. Я инженер, и я знал, что это означает. Это означает выплавку стали и чугуна, это прокат, это моторостроение, это работа мозга, стало быть, страхи, что мой мозг им будет непригоден, — выдуманные страхи.
Из люков выглядывали молодые лица. Были они сосредоточены, смущены народным ликованием и приветственными криками.
Знали бы эти молодые ребята, что это только начало их освободительного пути, первые шаги, что настанет час, когда вся Европа положит к их ногам высочайшую признательность, которую когда-либо знала история!
Я всматривался в их лица в поисках ответа на проклятый вопрос: выдюжат ли они столкновение, которое грядет? Оно может случиться сейчас, немедленно, через несколько часов, как только сомкнутся на каком-то рубеже огонь и вода. Настало ли время для них заливать европейский пожар?
Когда прошли войска, я отправился на завод.
У заводоуправления — толпа. Это и рабочие завода, и служащие конторы, я узнавал даже некоторых инженеров. Я спросил у рабочего, к кому мне обратиться. Он указал мне рукой на советского офицера. У него в петлицах было две шпалы. Позже я узнал, что это обозначает звание батальонного комиссара.
Комиссар Пенкин. Я запомнил эту очень русскую фамилию.
Я подошел и, как положено в таких случаях, поздоровался. Я уже успел научиться немного говорить по-русски.
Комиссар обернулся. Он выглядел значительно моложе меня. Ему было лет тридцать.
Утомленные глаза внимательно окинули меня, в них застыл вопрос. Я назвался. И тут же поспешил добавить, что пришел переговорить о работе. Я готов взять любую работу. Но лучше у станка, наладчиком хотя бы. Такой заработок меня устроил бы.
Комиссар улыбнулся: «Господин Эльсгемейер, вы остались? Я очень рад!» — и тут же поправился: «Мы очень рады. Командование Красной Армии радо, что вы остались. Вы опытный и знающий инженер. Мы о вас много слышали. Мы знаем, что вы бросили дом и ушли от фашизма. Я надеюсь, что у нас найдете новую родину».
…Это были светлые годы в нашей жизни. Я не говорю о том, что было до прихода Гитлера на мою родину. Я говорю о годах скитаний.
Но он опять оказался прав, мой странствующий рыцарь и прорицатель. Гроза разразилась летним днем, и ее никто не ждал. Настолько никто не ждал, что я оказался в день, когда войска Гитлера пересекли советскую границу, почти у самой границы. Я выехал в Турке, в мой родной город, по поручению заводоуправления…
В ночь на двадцать второе июня грянула гроза. Она застала меня почти на передовых позициях. Я не знал, как и тысячи других людей, уцелею ли я, но думал в ту минуту только о Марии. Как ее вывезти из этого ада?
Когда я вернулся во Львов, город горел. По улицам гремели гусеницы немецких танков. Огненное кольцо замкнулось. Я вспомнил о документах, которые мне оставили польские коллеги, уезжая от Красной Армии на запад. Как прикрытие для меня они годились, но Марию нужно прятать.
Я вспомнил о людях, которые не были моими друзьями, они стали друзьями потом. Один из них был простым рабочим. Я рассказал о своей беде. Хотел с ним посоветоваться, но он перебил меня. Не надо советоваться, надо прятать. Как? У них в доме есть подвал. Он тщательно скрыт от посторонних взглядов. Но даже если его найдут и спустятся в подпол, Мария будет и там спрятана.
Хозяин попросил меня об ответной любезности: никому и никогда но говорить, что он спрятал мою жену.
Предательства… Вот чего он боялся.
По радио и в приказах, прибитых на досках для объявлений, было передано распоряжение вернуться на свои рабочие места. Но завод опустел. В заводоуправлении хозяйничали немцы.
Я предъявил свои польские документы на имя Квитко. Поляк, рабочий, наладчик станка. Меня отправили в цех, я занялся станками.
И вдруг что-то прошелестело в воздухе. По территории завода забегали немецкие солдаты. Распахнулись ворота, и я увидел в окно, как въехала открытая машина кремового цвета. За ней следовал эскорт мотоциклистов. Машина остановилась возле встречающих, мотоциклисты проехали во двор. С мотоциклов соскочили автоматчики, окружили кремовую машину.
Лицо этого человека мне было знакомо. Я очень удивился, я не верил, не хотел верить своим глазам, но я не мог его принять ни за кого другого. Много раз в известном венском ресторане он подходил ко мне, склоняя лысую голову, и почтительно принимал заказ. Метрдотель с генеральскими нашивками — Герман Ванингер…
Вернулись на завод и мои польские «друзья», которые так горячо уговаривали меня в памятную ночь ехать на запад.
Жигловский — мой бывший коллега — был назначен инженером и с новым немецким хозяином обходил завод. Пришли в наш цех. Мне бы спрятаться на какое-то время, это отсрочило бы беду. Я не спрятался.
Жигловский увидел меня и шагнул навстречу. Но не с приветствием и не с радостью. Он громко произнес мою фамилию и, обернувшись к хозяину завода, спросил: почему инженер Эльсгемейер работает на наладке станков? Он даже произнес слово, еще не вошедшее в нашем городе в обиход: «Саботаж!»
Через несколько минут я уже был в гестапо. Они знали обо мне все: знали, кто я, откуда и кто у меня жена. Сначала мне надо было снять обвинение, что я оставлен во Львове Красной Армией, чтобы организовать «саботаж». Затем мне надо было доказать, что я не коммунист. Потом они занялись моей женой. Я твердо стоял на одном: моя жена ушла с русскими, когда меня не было в городе.
Наконец, осталось последнее: почему я скрыл свое имя и специальность? Я прикинулся неполноценным, ибо трусость считалась тогда — на словах, конечно, — признаком неполноценности. Я объяснил, что испугался. Я говорил, что, если, мол, вы, господин следователь, сделаете ошибку, вас будут ругать, по никто не скажет, что вы это сделали нарочно. А если я, инженер, сделаю ошибку? Мне скажут, что я это сделал с дурными целями. Мне ничего не оставалось, как отказаться от своей специальности.
Признание вины не освобождало от наказания, военно-полевой суд приговорил меня к расстрелу. И приговор был бы приведен в исполнение, если бы…
Во Львове было открыто отделение фирмы «Аутоунион», занимающейся ремонтом военных машин. Представитель фирмы не раз имел дело со мной до печальных событий 1938 года. Теперь он приехал в форме майора.
Он сумел кому-то доказать, что инженера, знающего авторемонт, расстрелять недолго, долго человека делу выучить. Расстрел был заменен концлагерем, который обслуживал ремонтный завод фирмы «Аутоунион».
Лагерь наш был особым. По нынешним временам это был бы научно-исследовательский центр европейского значения, если не больше. Во Львове я встретил немецких ученых — физиков, химиков, знаменитых техников, конструкторов.
Этим людям можно дать любую работу, все им по силам. Одного не могли сделать гестаповцы, несмотря на всю свою немыслимую власть: заставить их творить. Творить на благо рейха.
Однажды я и еще несколько заключенных сидели в чертежной и уточняли проект авторемонтной мастерской.
Вошел представитель фирмы «Аутоунион» майор Хоцингер. Мы встали и выстроились в шеренгу. Майор махнул рукой и подошел к чертежам. Он спросил о какой-то детали. Чертеж был не моим, и я поискал глазами своего товарища. Он выступил вперед, старый профессор, строитель и инженер. Хоцингер взглянул на него и отпрянул на шаг. И тут я увидел глаза Хоцингера. Чему он ужаснулся? Это было мгновение, но как преобразился человек, сколько он мог сказать глазами. Хоцингер сделал знак, чтобы я следовал за ним. Мы вышли в коридор. Хоцингер оглянулся, и вдруг в его голосе появились просительные нотки. Он спросил, знаю ли я человека, который делал чертеж. Я назвал фамилию берлинского профессора. Хоцингер печально улыбнулся и сказал, что профессор гордый и упрямый человек и он никогда не обратится к нему, к майору, с какой-либо просьбой. Так вот, Хоцингер просит меня как старшего в команде об особом внимании к профессору. Если что-нибудь понадобится, лекарства или заступничество, я должен буду немедленно известить майора. Оказывается, еще в вильгельмовской армии профессор был майором. Хоцингер служил под его командованием. Под Верденом майор вручил Железный крест Хоцингеру.