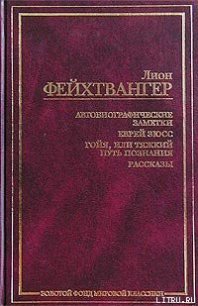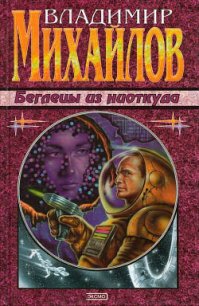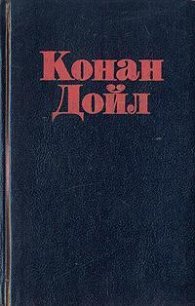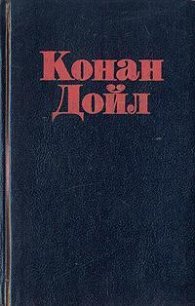Один на дороге - Михайлов Владимир Дмитриевич (библиотека книг .txt) 📗
– Семеныч-то дома?
– Принимает послеобеденный отдых, по распорядку. Поднять?
– Не надо. Скажи, что я звонил, прошу, если может, никуда не уходить…
– Да куда он пойдет? Слушай, ты не поверишь…
– Стоп! Скажешь потом. Значит, не уходить, потому что есть необходимость поговорить по серьезному делу.
– Правда, Вова, заходи. Старик обрадуется.
– Зайду. – Я помолчал, и Варвара – вот странности! – тоже молчала. Потом я откашлялся и небрежно спросил:
– Ну, как там у вас моя протеже?
– Ольга? Ты знаешь, очень милая девочка, очень. Не знаю уж, что у вас там, но если тебе нужно мое мнение, могу одобрить. Немного балованная, конечно, обидчивая, своенравная, с другими не очень считается, но это молодое поколение все такое. Ты скажи ей…
– Ладно, – сказал я. – Вот вечерком и скажу, как только закончу с Семенычем. А пока передай ей привет.
– Да разве она не с тобой? Интересно… Она еще вчера распрощалась и ушла – поблагодарила и сказала, что больше не вернется… Я думала, вы с ней договорились.
– Как это – ушла? – глупо спросил я.
– Я же говорю: попрощалась и ушла.
– Что же вы: не смогли удержать, уговорить…
– Откуда мы знали, что ее надо удерживать? Ты же не предупредил! Она, кажется, была очень обижена на тебя, – Варвара произнесла это не без некоторого удовольствия, – ты ей, наверное, что-то не так сказал, когда вы прощались.
– Ничего я такого не говорил… – возразил я не очень уверенно.
– Значит, надо было что-то сказать. Ты даже не позвонил.
– Что же было звонить, если мы только что расстались?
– Эх, Вова, – сокрушенно проговорила Варвара, – ничего ты не понимаешь. Никогда не понимал и так и не научился понимать.
– Ну, такой уж я уродился, – сказал я, чувствуя, что все больше начинаю злиться. – Ладно, если она у вас снова появится… Хотя я же все равно скоро приду.
– Ну конечно, ты ведь к Семенычу идешь, а не к ней…
Я брякнул трубку, даже не попрощавшись как следует.
III
Вот теперь я по-настоящему почувствовал, как утекают из меня последние капли уверенности в себе и воскресшего было интереса к жизни, а их место занимает проклятое чувство безнадежности, всегда имеющее своим источником ощущение собственного бессилия – самое проклятое и унизительное ощущение из "всех, какие мне доступны.
Я переживал его не часто, но пережитое надолго оставалось в памяти. Когда-то, например, я командовал пулеметным расчетом. Проходили тактические учения с боевой стрельбой. Мы наступали, я вел расчет… Показали мишени, я скомандовал: «Боевая позиция здесь! Пулемет к бою!» – и решил, что стрелять буду сам, стрелял я хорошо. Упал за пулемет и вдруг понял, что потерял цель, не вижу ее, и волнение мешает собраться, найти. Ее видели все, кроме меня, кричали, показывали, но я никак не мог увидеть грудные мишени, затаившиеся в кустарнике, на склоне холма, в трехстах метрах; и вот тут-то ощущение беспомощности, едкое и расслабляющее, охватило меня… «Дай я!» – крикнул ефрейтор из расчета. Я откатился вбок. Оставались считанные секунды для того, чтобы поразить цель; он открыл огонь, а у меня было такое чувство, словно он стрелял в меня.
Подобное случается и с людьми куда более опытными. После той истории моя репутация хорошего стрелка пошатнулась, и на инспекторской командир роты сказал мне: «Вы, сержант, будете стрелять последним из роты, передо мной. Вы вряд ли выполните упражнение, а я потом постараюсь сгладить впечатление, которое возникнет у проверяющих».
Рота отстрелялась не так уж плохо, двоек не было; настала моя очередь… Показали первую цель, пулеметный расчет противника, – я обстрелял его короткими очередями, и мишени исчезли прежде, чем истек срок – значит, поразил. Я быстро ослабил рычаги наводки, повернул пулемет в нужном направлении, и сразу же показался танк с десантом на броне; танк, конечно, был фанерным, и десант тоже. Я взял упреждение, бормотнул помощнику, чтобы он закрепил горизонтальную наводку, и как только танк подкатился к мушке, я одним большим пальцем отвел предохранитель, а другим, правой руки, нажал гашетку и дал длинную очередь, без рассеивания: когда танк движется сам, рассеивать по фронту не надо. По фонтанчикам пыли позади мишени понял, что пули пошли хорошо. Я сразу же отвел ствол левее, снова дождался танка и дал вторую длинную очередь – стрелял, пока не кончились патроны, положенные на это упражнение. И снова пули вроде бы легли, как надо, и будь это настоящий десант, я не хотел бы, чтобы в нем оказались мои приятели. Я повернулся набок и, силой выталкивая ушедший куда-то в поджелудочную железу голос, доложил: «Сержант Акимов стрельбу закончил!» Нам разрешили встать и вернуть пулемет на исходную позицию. Из траншеи позади мишеней показчики по телефону сообщили: был поражен весь десант, на каждую фигуру пришлось в среднем три попадания, для отличной оценки годился бы и результат похуже. Меня стали поздравлять с отпуском: по традиции, за отличную стрельбу на инспекторской полагалось десять дней без дороги, чистых десять. После меня стрелял ротный. В армии, в отличии от гражданки, начальник должен сам уметь все то, чего он требует от подчиненных, чтобы в нужный момент подать команду «Делай, как я!». Но капитан, отличный пулеметчик, видимо, волновался – наверное, вот это самое неизвестно откуда свалившееся чувство безопасности накрыло его, как купол при неудачном приземлении накрывает парашютиста. Ротный не поразил первую цель, не был поэтому допущен ко второй и получил плохую оценку: перед инспекцией все равны. А ведь такое упражнение он выполнял, как говорится, с закрытыми глазами… Мне стало всерьез жалко его, когда я представил, каково ему было захлебываться в бессилии, когда он выпускал одну короткую очередь за другой по проклятым зеленым головкам, а они все не исчезали – и, если перевести это из учебной ситуации в боевую, в это время сами вели по нему огонь из станкача, пытаясь подавить его, и раз не он их, то, значит, они его достали, и он, наверное, чувствовал, как их воображаемые пули словно гвоздями приколачивают его к земле…
Нет, бессилие – это было плохо, и, направляясь к дому Семеныча, я знал, что он не поможет мне избавиться от этого чувства, если даже выяснится, что Шпигель был его лучшим другом и делился с ним сердечными тайнами к творческими замыслами – чего, конечно, быть не могло даже в сказке.