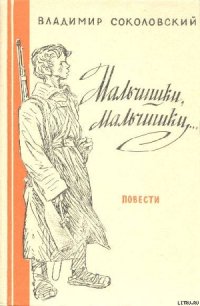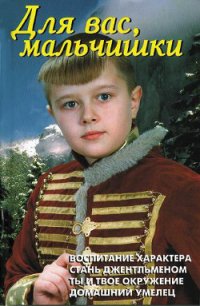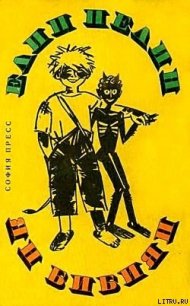Чаша гладиатора(без ил.) - Кассиль Лев Абрамович (книга регистрации .TXT) 📗
Как это называется, никто сказать не хотел. Все понимали, что история вышла некрасивая, и молчали. Безмолвствовал и недовольный Глеб Силыч. Он только плечами пожал и отвернулся, как бы показав, что не желает больше вмешиваться. Бедная Ксана, побледнев, беспомощно оборачивалась то к Артему Ивановичу, то к учительнице, то к ребятам. — Да, тяжелая картина в доме у Мартына… — начал Незабудный и только крякнул, замолчав.
В зале уже топали ногами, били в ладоши, требуя начала торжества.
— Как же быть? — раздался вдруг звонкий, непривычно высокий от волнения и готовый вот-вот сорваться в рыдания голосок Ксаны. — Это, значит, вы думали так всех нас обмануть? И меня, Грачик?
— Ксана, я готов… — начал было Сеня. Но она прервала его:
— Замолчи лучше. Любишь везде говорить о чести, совести, а сам! Как тебе не стыдно только. Ведь ты нас всех… А говорил!.. Я с тобой теперь никогда в жизни больше дружить и водиться не буду! — и, чтобы скрыть слезы, повернулась к нему спиной.
— Не расстраивайся, не расстраивайся, Ксаночка, — сказала Елизавета Порфирьевна. — Сейчас мы подумаем, как быть.
— Как быть? — еле слышно проговорил Сеня. — «Не слыть, а быть». Вот как Ирина Николаевна нас, пионеров, учила. Надо все прямо сказать. Всю правду.
Ксана кинулась к Ирине Николаевне, схватила ее за руки, припала головой к плечу. Она уже не могла сдержать слезы.
— Нет… не надо!.. Ну, пожалуйста, не надо… не надо отдавать кубок! Лучше еще раз устроить эстафету. Ведь у них тоже было нечестно! Вон Грачик чуть не утонул. Я вас прошу — не надо!
Сердце Сени так и кромсали на части жалость и сознание непоправимости поступка.
— Ну тогда, — объявила Ирина Николаевна, — тогда надо сказать всем. И пусть сами ребята решают. Пусть поступят пионеры так, как им подсказывает их совесть. Идемте.
Елизавета Порфирьевна согласно закивала белой головой. И все пошли к лесенке, которая вела через дверь на эстраду. Позади тяжко ступал Артем Иванович, обхватив одной рукой заветный кубок.
Пьер попридержал чуточку Сеню:
— Слушай, Гргачик… Может быть, мне лучше самому сказать все?
— Я бы на твоем месте, Кондратов, так и сделал. — Но я не могу. Как же это я выйду… и буду смот-ргеть им в глаза… и говоргить…
— А ты закрой глаза, — посоветовал Сеня.
— Но ргебята-то не закргоют. И все меня видеть будут. Вот если бы можно было, чтобы в это вргемя на меня никто не смотргел…
— Стой! А если бы на тебя никто не смотрел, ты бы сказал?
— Пароль-доннер… Честное слово, сказал бы.
— Иди тогда и проси слово. Я тебе отвечаю — никто смотреть не будет. Как только попросишь слова, так я…
Он принялся что-то шептать Пьеру.
Тот, подставив ухо, испуганно косился:
— Вргешь ты…
— Не имею привычки. Иди.
— А ты?
— Сам увидишь. Мне на ребят смотреть, думаешь, не совестно?
Пьер вошел в зал последним и, ни на кого не глядя, занял свое место в президиуме.
Так как все считали его героем эстафеты, решившим ее результат, когда, казалось, уже дело было проиграно, снова вспыхнули аплодисменты, которые только стихли после овации, устроенной в честь Артема Ивановича Не-забудного.
Кубок был установлен на большой тумбе у края сцены, слева, у самого портала. Занавес, подобранный в красивые складки, как бы задрапировал тумбу. И все выглядело очень празднично.
— Ну, Пьерка, начинай, говори, а то поздно будет, — шепнул соседу из-за занавески Сеня. Он исчез, но через минуту появился снова, шепча: — Ну чего же ты?.. Говори…
Но тот в ответ только головой замотал, с ужасом оглянувшись на Сеню.
В это время фотокорреспондент из районной газеты уже нацелился своим аппаратом на кубок, вскочил на стул, потеснив ребят в первом ряду. И один из мальчиков, с гордостью вызвавшись в этот день быть его помощником, подключил к штепселю тысячесвечовую лампу. Крак!.. Где-то раздался легкий щелчок, и все погрузилось в полную темноту. Должно быть, старые пробки не выдержали.
И в полной темноте, в которую погрузился зашторенный зал, раздался голос Пьера:
— Ргебята, погодите! Я сейчас все скажу. Это я, Пьерг Кондргатов. Пргавда, ргебята, надо возвргатить кубок…
Зал в темноте грозно закричал, зашумел, но потом пронеслось:
— Тесс!..
— Да… надо отдать… Потому что было неспргаведли-во, непргавильно… За меня и за Шибенцрва Ргему кон-тргольную написал Гргачик. И по математике он ргешил нам…
Так было темно и тихо в зале, что казалось, будто все ушли из него и закрыли плотно за собой двери и живой души вокруг не осталось. И вдруг разом все закричали, затопали, загремели скамьями.
— Переиграть! — гремела тьма в зале.
— Несправедливо отдавать!
— Неправильно!
— Переиграть!..
Где-то уже загремели спичечные коробки и даже чиркнули там и здесь огоньки, чиркнули и разом погасли. Были-таки у некоторых про запас спички, но каждый боялся, что его еще, чего доброго, заподозрят в курении.
Послышался топот, скрип дверей, кто-то выбежал в темный коридор. Где-то с грохотом повалили стул, послышались голоса снаружи из коридора. Оттуда блеснул луч карманного фонарика, и вдруг все залил яркий, а после темноты нестерпимо слепящий свет. Пробки исправили.
Но пораженный зал словно онемел сначала. А потом все вдруг заполнилось тревожным, круто нарастающим гулом. Все смотрели в левую сторону сцены. Некоторые испуганно моргали и жмурились и снова открывали гла-уа, словно не верили тому, что видят.
Все вглядывались в тумбочку, на которой только что стоял кубок у края сцены. Кубка там не было.
Глава VIII
Новый след старой тайны
Он так и исчез таинственно и бесследно, этот кубок… Осмотрели все помещения, лазили на чердак, открывали дверцы кладовок, заглядывали в топки печек-голландок, но все поиски были безуспешны: кубок пропал самым непостижимым образом. Праздник был сорван, и все оставалось огорчительным и донельзя загадочным. Недоумевали гости, руками разводили учителя и школь-ники-тулубеевцы. Кто-то из ребят сказал Ирине Николаевне, что слышал странный всплеск за шторами окна, к которому примыкала сцена как раз той стороной, где возле занавеса у самого края стояла тумбочка с кубком. Другие уверяли, что до них как будто донесся звук лодочных уключин за дамбой. Третьи твердили, что кто-то, когда было темно, топал по чердачной лестнице через кухню. Словом, слухи и сведения, одни противоречивее других, ходили по школе из класса в класс, из дортуара в дортуар, где в этот вечер никто не спал до поздней ночи. Но следов кубка не было.
А когда все наконец понемножку угомонились, к Ирине Николаевне, уже укладывавшейся спать в учительской, постучался семиклассник Витя Халилеев — он был лучшим электротехником в школе и первым бросился чинить пробки, когда погас свет.
— Ирина Николаевна, странное дело, пробка-то ведь не перегорела. Ее просто кто-то нарочно вывернул. А я как посветил фонарем — так и вижу…
Все запуталось еще больше.
Тогда же после исчезновения кубка, когда гости из соседней школы садились на свои лодки, тулубеевцы украдкой успели заглянуть им под скамьи, но кубка не было и в лодках соседей. Да и зачем было им пускаться на такое, когда им открывалась возможность увезти к себе кубок по всем правилам. Не мог же унести кубок обратно сам Артем Иванович. Никто, разумеется, не посмел предложить ему раскрыть чемодан, в котором он привозил кубок. А сидел он на сцене с краю, неподалеку от тумбочки. Если бы он захотел… Но зачем человеку, который только что принес учрежденный им кубок, красть его? И на другой день не могла успокоиться, все еще бурлила школа. По всем классам и дортуарам шу-гаукались, переговаривались. Все были подавлены, все терялись в догадках. Многие склонялись к тому, что это тот же проклятый Махан, которому крепко попало после истории с Сениной байдаркой, подплыл тихонько в темноте к дамбе, на которую выходило окно зала возле сцены, и, когда погас свет, через то же окно похитил кубок. Собирались уже сообщить в уголовный розыск и вызвать собаку-ищейку. Но вряд ли бы она смогла что-нибудь учуять: десятки рук уже касались тумбы, открывали окно, десятки ног наследили на сцене…