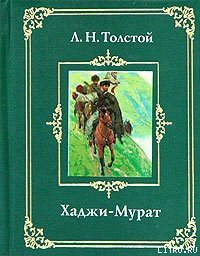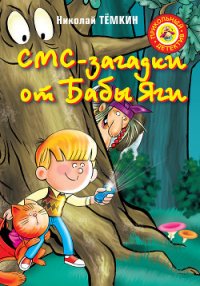Похождения Хаджи–Бабы из Исфагана - Мориер Джеймс Джастин (книги без регистрации .TXT) 📗
Шах прибыл на другой день и остановился за городом, под палаткою. Многочисленный отряд мулл и богословов вышел ему навстречу и принял его у городских ворот с почестями, должными наместнику пророка. Шах всегда старался жить в согласии с этим опасным народом, зная влияние его на правоверных: потому и теперь оказывал он мирзе Абдул-Касему всевозможное уважение. Прежде всего, отправился он пешком к этому муджтехиду и удостоил его редкой чести, пригласив сидеть в своём присутствии. В продолжение пребывания в Куме он никогда не появлялся верхом; в действиях и приёмах обнаруживал самое набожное уничижение, раздавал бедным обильную милостыню и обогащал дарами гробницу святой. Он сам и его царедворцы, искривив лицо по местному обычаю, всячески силились казаться истощёнными постом, молитвами и умерщвлением плоти. Я слыхал при дворе, что хотя внутри сердца шах изволит быть настоящим суфием, но по наружности он чрезвычайно строгий мусульманин. Поэтому ему нетрудно было выдержать здесь свой характер. Но забавно было видеть, как один из его везиров, известный грешник по статье вольнодумства, принуждён был в угождение повелителю и покровительствуемым им ханжам завязать правила свои в салфетку забвения и насунуть на брови башлык благочестивой смиренности!
На следующий день, за час до полуденной молитвы, шах явился в ограде святилища, сопровождаемый несметною толпою государственных чиновников, слуг, мулл и народу. Он был одет запросто, в тёмном платье, без всяких украшения, без дорогих камней, даже без кинжала, и в руке держал длинную, финифтью расписанную палку с головкою дивной работы. Единственный драгоценный предмет, которым он мог гордиться, были его чётки, набранные из огромных жемчужин необыкновенной красоты, добываемых из казённых тоней Бахрейна. Он беспрестанно пропускал их сквозь пальцы, пришевеливая губами.
Муджтехид следовал за шахом в двух или трёх шагах по левую руку, отвечая на вопросы, которые тот благоволил предлагать ему, и слушая с глубочайшим вниманием его замечания. Шествие должно было проходить мимо моей кельи. Я стоял у своих дверей, трепеща и надеясь быть примеченным моим покровителем, что могло напомнить ему о данном мне обещании. Но, видя, что впереди шаха, который уже подходил к тому месту, не было никого такого, кто бы мог вытолкать меня вон, я решился ходатайствовать сам за себя. Для этого я выскочил из кельи, повалился ему в ноги и вскричал:
– Убежище моё у падишаха, Убежища мира! Молю о помиловании, ради праха благословенной Фатимы!
– Кто он такой? Здешний ли? – спросил шах.
– Он пользуется убежищем в этом святилище и хлопочет о прощении, в котором шах не благоволит отказывать несчастным, удостаивая святилище своего посещения, – отвечал мирза Абдул-Касем. – Он и мы жертвы шаха. Что падишах засудит, тому и быть.
– Но кто он таков и по какому поводу здесь находится? – спросил шах.
– Я жертва шаха, Средоточия вселенной, – примолвил я, – был наибом, то есть помощником помощнику главно-управляющего благочинием. Имя рабу вашему Хаджи-Баба. Завистники мои обнесли меня перед шахом: я ни в чём не виноват.
– Понимаем! – вскричал шах, помолчав минуту. – Так это ты Хаджи-Баба? Поздравляю! Какая бы то собака ни напроказничала, хаким-баши или наиб, это всё равно. Дело в том, что шах потерял своё добро. Ясно ли это или нет, а? Как ты думаешь, мирза Абдул-Касем?
– Конечно! – отвечал святой муж. – Вообще в делах между мужчинами и женщинами только женщины в состоянии сказать правду.
– Но что говорит шариат, закон нашей несомненной веры? – возразил повелитель. – Шах потерял через них свою невольницу. За всякое существо человеческое полагается взнос цены крови: даже за убиение франка или русского платится что-нибудь. Так зачем же мы должны даром терять свою собственность, по милости нашего врача или помощника помощнику какой бы то ни было собаке?
– За всякое создание аллахово назначена по закону цена крови: кровь не должна быть проливаема без уплаты пени, – присовокупил богослов. – Но в Благородной книге сказано: «Лучше вам будет, если простите». Эти слова, о шах, относятся особенно к лицам, облечённым властию, и всегда были правилом для падишаха, Убежища мира (да продлится его царствование до дня преставления!). Обрадовав высочайшим прощением несчастного грешника, шах стяжает себе заслугу перед аллахом большую, чем умертвив двадцать человек русских, или посадив на кол отца всех франков, или даже побив каменьями вольнодумца – суфия.
– Так и быть! – сказал шах и, возвысив голос, громко примолвил: – Можешь удалиться, но помни, что освобождением своим обязан ты предстательству этого святого мужа (тут он положил руку на плечо муджтехиду) и что без него никогда не видал бы ты солнца. Поди прочь! И не смей вперёд стоять в нашем светлом присутствии.
Глава VII
Прибытие в Исфаган. Старые знакомцы. Умирающий отец. Родня. Погребение
Не нужно было об одном и том же говорить мне дважды. Я тотчас оставил Кум, мулл, муджтехидов и всех ханжей и, с несколькими риалами в кармане, помчался пешком в Исфаган. Пребывание в богословском городе действительно поселило во мне некоторое желание быть добрым мусульманином. Я укорял себя в неблагодарности к родителям, которым ни разу не сообщил о себе известия и которых, быть может, не застану теперь в живых. Душевно гнушаясь прошедшею жизнью, проведённою в пороке, гордости, забвении обязанностей веры, я сожалел даже, что присутствие шаха не дозволило мне остаться в Куме и быть учеником мирзы Абдул-Касема. Твёрдое намерение прослыть добрым сыном, честным человеком, примерным питомцем ислама, составляло единственное моё утешение в тяжком и одиноком странствовании,
Вид мрачной горы «Казиева колпака», знаменующей вдали местоположение Исфагана, воскресил во мне сладостные воспоминания юности. «Кто знает, – подумал я, – найду ли я ещё в живых учителя моего, муллу; соседа нашего, лавочника, у которого покупал я сливы, пряники и сласти; старого друга, привратника, которого тормошил за усы, когда я был ещё мальчиком, и напугал так жестоко во время набегу на караван-сарай вместе с туркменами?» Увидев минареты города, я остановился и сотворил тёплую молитву, благодаря аллаха за сохранение меня в путешествии. Потом положил я два камня, один на другой, для памяти, и произнёс следующий обет:
– О Али! позволь верному псу твоему, Хаджи-Бабе, благополучно достигнуть родительского порогу, – тогда клянусь твоею святостью, что убью барана и в честь твою угощу им родных и друзей!
Волнуемый надеждою и грустными предчувствиями, немедленно прошёл я по извилистым улицам и крытым базарам и предстал перед главным караван-сараем. Лавка отца моего была заперта. Это обстоятельство произвело во мне неприятное впечатление; но я вспомнил, что это была пятница, и подумал – вероятно, дожив до глубокой старости, батюшка сделался строгим мусульманином и не хочет работать в часы, посвящаемые правоверными соборной молитве.
Караван-сарай, однако ж, был отперт и представлял давно знакомое мне зрелище. Двор был завален грудами тюков, на нём толпились лошаки и погонщики; путешественники из различных стран свету, каждый в своей природной одежде, сидели на пятках у своих конурок или расхаживали по двору, не заботясь друг о друге; те заняты были разговором; те проходили недосужно, с челом, нахмуренным расчётами; те, наконец, дремали, уронив из рта трубки. Разглядывая людей среди этой ежедневной суматохи, я увидел привратника с глиняным кальяном в руке; он пробирался сквозь кипы товаров, чтобы поискать себе уголёк жару. Голова его, углубившаяся в плеча от старости, клонилась уже к земле, и согнутые колени с трудом поддерживали хилое туловище. Он так привык к беспрестанному вокруг него движению странников, что когда я заговорил с ним, то добрый старик ответствовал, стоя боком и не думая даже посмотреть мне в лицо.
– Вы мепя не узнаёте, Али-Мухаммед? – сказал я.
– Приятель! Караван-сарай – картина свету, – отвечал он. – Люди приходят и уходят, и никто не обращает на них внимания. Как мне вас узнать? Али-Мухаммед состаре лся, и память его рушилась вместе с здоровьем.