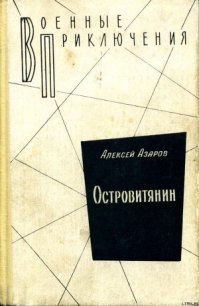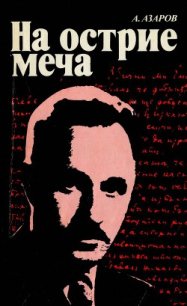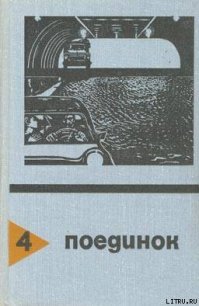Приключения-1971. Сборник приключенческих повестей и рассказов - Азаров Алексей Сергеевич (книги онлайн полностью бесплатно TXT) 📗
— Но, но, Леман! Успокойтесь! Уже утро. Мы продержались пять часов. Скоро придет караван, и нас подберут.
Леман продолжал смеяться жутким хлюпающим смехом.
— Да успокойтесь, что с вами?
— Ничего... Не беспокойтесь... Я не сошел с ума... Все в порядке. Помните, я говорил об игре в кости.
— Да. Что в этом смешного?
— Судьба... обыграла нас... У нее шесть!.. У нас... одиночка... Разве... не... смешно?..
— Что поделать... Будем держаться. У тебя шерстяное белье?
— Да... Не особенно... Холодно... Только... вот...
Он внезапно просунул руки в круг, и оба они опять погрузились в холодную, пахнущую нефтью воду.
— Как ты неосторожно, — сказал капитан-цурзее после долгого молчания. — Хотя бы предупредил. Можно было захлебнуться. Хорошо, держи так руку, но тебе ведь неудобно. Лучше за петлю. Вот и хорошо. Смотри! Всходит солнце!
— Последнее солнце... Вы хотите пнуть меня ногами? Предупреждаю!
— Откуда у тебя такие мысли?
Леман только усмехнулся:
— Когда будете захлебываться... в вонючей нефти... вспомните госпитальное судно... транспорт с солдатами... рыбацкую шхуну... людей, спящих на миноносце. Мы с вами слишком малая плата за все...
Они молчали, не в силах говорить и думать, все силы уходили на то, чтобы не выпустить круг. Фон Гиллер забылся в дремоте, руки его ослабли, и он чуть было не нырнул в отверстие круга. Его обезумевший взгляд встретился с глазами Лемана и уловил в них насмешку.
— Держитесь лучше, кэп, — сказал, еле шевеля губами, Леман.
Когда они увидели паруса клипера, а затем и самый корабль, похожий на сказочное видение, Леман сказал, еле шевеля языком:
— Выиграли... Хотя, если они узнают, кто мы...
— Молчите!
Уже слышались слова команды, скрип уключин. Фон Гиллер, подобрав затекшие ноги, изо всех оставшихся сил толкнул ими в живот лейтенанта, и тот скрылся под нефтяной пленкой.
Матрос Зуйков и юнга Лешка Головин наблюдали за этой сценой с марсовой площадки.
Зуйков сказал, покачивая головой:
— Ведь он, собака, утопил своего кореша! Секунда до спасения оставалась, он даже руки ему не протянул и, видал, будто даже отстранился от него, словно отпихнул.
— Ослаб он, дядя Спиридон, видишь, без памяти везут.
— Слаб! В такую минуту, Алексей, сила в человеке прибывает, он-то в круге спрятался, а того наружи оставил. Ведь видел, что тот, другой, на ладан дышит, и уступил бы середку. Или схватил бы его за рубаху да продержал малость, а он только о себе думал. Плохое это дело, парень, когда только о себе думка, да еще вот так, в таком положении. Ты наперво о товарище думай, а если тонуть, так вместе. Наш-то капитан-лейтенант двоих спас, о себе не думал, да этот Гарка, английский матрос, Феклину сказывал, что всю ночь на помощь шел, как только взрыв заметил, так и за весла взялся. Один греб, тоже контуженый весь. Так-то, Алексей. Вот как должен поступать русский, да и всякий моряк и прочий человек, если он человек!..
«Орион» снимался с дрейфа. Матросы разбежались по реям ставить убранные паруса.


Юлий ФАЙБЫШЕНКО
Кшися
Наш дом стоял на горе. Вокруг цвел сплошной сад. Он широко обходил дом, спускался вниз к обрыву, к окраине, где в крохотных хатках жили странные приблудные люди, вечно копошившиеся возле развалин (а их хватало не только здесь, но и повсюду в городе). Сад прижимался яблоневыми ветвями к монастырской стене, шел вдоль нее по спуску к началу городских улиц, а оттуда снизу, почти от самых кюветов шоссе, подымались вверх знобкие ряды молодых яблонек, неизвестно кем посаженных и брошенных на произвол судьбы. Они четко восходили почти до начала нашего двора, их кудрявые макушки качались в десяти метрах от крыльца, а сбоку от него гудели под ветром матерые вишневые и черешневые деревья и глухо позванивали пересохшими от солнечного жара листьями узловатые груши.
Ниже этого зеленого царства разворачивалась топография старого города, с его полуразрушенными войной улочками, с многоэтажным центром, обращенным почти в сплошные руины и сейчас кое-где покрытым лесами восстановления, с чистенькими домиками окраин, погруженных в зеленые волны садов.
За исключением парка, который тоже лежал на горе, но уже с другой стороны от центра, весь он просматривался от нашего дома. Я говорю: нашего дома, но жило в нем четыре семьи, а мы владели лишь одной комнатой, выходящей окном на город, почему я каждый день и мог часами всматриваться в его изуродованное войной лицо. С одной стороны вечно темного коридора, кроме нас, жили Иван с матерью и старый Исаак с молчаливой внучкой, с другой — семейство Стефана.
Дом наш был молекулой окружавшего мира, а мир этот еще только отстаивался от многослойного запаха прошлого. Ведь мы жили в краю, помнившем и австро-венгерскую империю, и панскую Польшу, и недавний ужас гитлеровского владычества.
Когда-то дом принадлежал Стефану. Все остальные жильцы появились в нем после освобождения. Стефан, высокий сумрачный поляк с носатым небритым лицом, редко появлялся в коридоре или на нашей половине дома. У его домочадцев был отдельный выход в сад, а коридор они использовали лишь затем, чтобы вынести оттуда или, наоборот, вернуть туда что-нибудь из старой мебели, загромождавшей весь задний угол дома.
В первое воскресенье после приезда мне сразу пришлось нырнуть в самый омут раздиравших дом водоворотов. Было только часов семь утра, и солнце, еще вялое, еще словно бы задумавшееся, невысоко брело над городскими крышами, дрожало мягкими косяками на теплых досках крыльца, отблескивало на листве. Пока отец с матерью не проснулись, я вылез в окно и помчался к колодцу. Нажарив лицо, выскоблив шею, ополоснув спину леденящим огнем колодезной воды, я пошел обратно. Полотенце было забыто в комнате, и капли медленно высыхали у меня на коже.
На крыльце уже сидел в кресле-качалке старый Исаак, и около него на стуле полная застенчивая девушка с нежным румянцем на очень белом продолговатом лице. Она встретила меня добрым и насмешливым взглядом, я кивнул и, сказав «здрасьте», хотел было пройти, но в это время из сада вышла целая процессия: впереди высокая мощногрудая женщина в жакете, стянутом в талии, в длинной, широкой книзу юбке, в шляпке с перьями, за ней Стефан в пиджаке «фантазия», по-женски обрисовывавшем ему зад, в галстуке на светло-желтой сорочке и фетровой шляпе. На этот раз его мрачное лицо было выбрито, но глаза глядели с прежним диким выражением, сзади всех в коротеньком, выше коленей, платьице бежевого цвета благонравно шла девочка моих приблизительно лет, с пышной прической пепельных волос, раскинутых по плечам, в беленьких носочках на загорелых ножках, в лаковых туфлях.
Семейство проследовало мимо нас молча, лишь девушка на крыльце тихо, но ясно в утренней тишине сказала:
— Дзень добжий, пани и пане Тында.
Тогда Стефан сделал вид, что снимает шляпу, а мощногрудая тетка пророкотала:
— Дзень добжий.
И тотчас же ангельски зазвучала девочка;
— Гут морген, Ревекка.
— Дзень добжий, Кшися.
Я стоял столбом и пялился во все глаза вслед удалявшемуся семейству.
— Они пошли к мессе, — сказала Ревекка, — а вы какой веры, мальчик?
Я задумался. Какой я был веры?
— Никакой — сказал я.
— Так не бывает, — мягко сказала девушка, — у человека должна быть какая-нибудь вера.
— Мой отец коммунист, — сказал я, — а я пионер, а бога нет и никогда не было.
Старый Исаак печально покачал головой и посмотрел на меня черными, глубоко запавшими глазами:
— Какие слова, какие неразумные слова ты говоришь, мальчик...