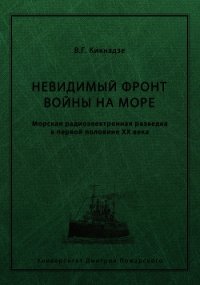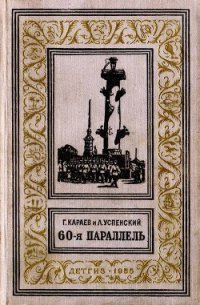Кто там стучится в дверь? - Кикнадзе Александр Васильевич (книги онлайн полные версии бесплатно .txt) 📗
Мне бы научиться принимать вашу волну, товарищ преподаватель радиодела Струнцова. А то мне очень грустно жить без весточки от вас. Мне бы очень хотелось узнать, живы и здоровы ли вы, по-прежнему ли вы ходите в купальню, по-прежнему ли подплываете к парашютной вышке, привычно взбираетесь на нее и бесстрашно падаете вниз. Говорили, что вас должны были начать обучать прыгать с самолета. Пожалуйста, будьте осторожны, осмотрительны и аккуратны. Поверьте, я многое бы дал, чтобы получить возможность хотя бы день, хотя бы час провести с вами, повидаться со старыми друзьями; на расстоянии только и начинаешь понимать, какие это славные парни Станислав, Котэ и Шаген. Далеко ли они? Куда их занесло? Дано ли нам когда-нибудь встретиться?
Что такое... Или мне это чудится? Заглушая все мысли и воспоминания, отгоняя подступивший было сон, какая-то незнакомая странная волна доносит до моей комнаты радиообращение к немецкому народу. Обращение издалека писателя Томаса Манна. Превращаюсь в слух, стараюсь не пропустить ни слова.
«...Немецкий народ, — слышится из приемника, — займет свое место под солнцем. Но если он будет и дальше следовать своим соблазнам, — я приглушаю звук, — то он слишком поздно узнает, что ему не занять своего места под солнцем, так как мир покроется темнотой и ужасом. Прочь от гибели! Долой национал-социалистских палачей Европы! Я знаю, что придам своим выражениям лишь глубочайшее страстное желание немецкого народа, если я закричу: «Мир! Мир и свобода!» Немцы, спасайте себя, спасайте свои души, отказывайтесь повиноваться, отказывайтесь от верности своим тиранам, которые думают о себе, а не о вас. Этот мир никогда не согласится и не станет терпеть «новый порядок», вызывающий у человечества чувство страха... Вы можете, если хотите, удесятерить беду, которую вы уже причинили, проявляя послушание и доверчивость, но в конце концов она еще будет вашей собственной бедой».
Я слушал слова великого писателя и спрашивал себя: до многих ли сердец они дойдут, во многих ли сердцах найдут отклик?
Газеты пишут о разгроме берлинской организации коммунистической партии и аресте ее руководителей. Силы Сопротивления разрознены. Страна одурманена победными маршами. Честная Германия за решеткой.
В стране шовинистический угар.
Рано утром на улице медь оркестров. Продолжается начавшееся накануне вечером торжество. Сытый, довольный Мюнхен провожает в армию своих солдат. В окно врывается знакомое: «Бог, покарай Англию!» Теперь это старое немецкое изречение звучит как национальный девиз.
Я должен научиться ждать.
Я понимаю, по-настоящему мужчина узнается не тогда, когда все идет хорошо, а когда все идет плохо. И разведчик тоже. Может быть, кто-то желает узнать меня лучше? И дать мне возможность лучше узнать самого себя? Увы, слишком наивное предположение. Почему хотят, чтобы я казался сам себе беспомощнее, слабее, чем на самом деле? «Выше нос!», «Не пищать!», «Держать хвост трубой!» — все эти советы, которые я давал себе, уже давно потеряли какой-либо смысл. Приходила, правда, и другая мысль: не может ли быть, что меня берегут до той поры, когда я буду нужнее, чем сегодня, кто знает, что впереди? Но и это предположение оказывалось на поверку искусственным. Во-первых, я слишком мало значу, чтобы так меня берегли. А во-вторых, если бы берегли, постарались бы сделать что-нибудь, хотя бы передать два слова, чтобы плохие мысли не лезли в мой котелок. Чувствую себя божьей коровкой, которой играют на задней парте во время урока два двоечника. Бегу к краю парты и натыкаюсь на линейку. Поворачиваю обратно — снова линейка, а взлететь не могу.
У Ульриха Лукка широкоскулое лицо трубача. Будто когда-то давно, играя на трубе, взял высокую ноту, напрягся от натуги, замер и... остался таким на всю жизнь. Если смотреть на него сзади и чуть сбоку, за скулами не увидишь щек. Лицо с красноватым отливом, тем самым, которым так гордится каждый баварец и который считается в этих краях признаком хорошего здоровья и красоты.
В его отношении ко мне постепенно исчезает настороженность, которую я ощущал на первых порах. Ульрих нередко присоединяется к нам с Аннемари. Он любит сестру, привязан к ней. Втроем смотрим корсиканскую труппу — пантомима с полураздеванием. Аннемари замечает, что процесс приобщения к западной культуре протекает у меня гораздо быстрее, чем можно было предполагать; она считает это своим личным достижением. Через несколько дней Лукк приглашает на выставку картин, которые, как он небрежно говорит, ненадолго вывезены из французских и прочих музеев. В залах три старых служителя-француза с безразличными, ничего не выражающими взглядами, им словно все равно, подойдет ли кто-нибудь к картине, тронет ее пальцем или просто-напросто унесет...
Было несколько полотен Гойи — старики мастеровые, был Тициан — портреты разных меланхоличных коронованных особ, был Брейгель (кажется, из Венской галереи — «Вавилонская башня», картина, о которой я, к удивлению Аннемари, не слышал. Лукк постарался воспользоваться этим обстоятельством, чтобы «дать пищу для размышлений».
— Посмотри, Франц, подойди поближе, видишь эти фигуры, эти механизмы, они чем-то напоминают наши современные подъемные краны, не так ли? Посмотри, как растет ввысь башня, как она огромна и величественна. И люди работают на совесть: сколько разных фигурок, словно муравьи, имеющие задание от природы и старающиеся выполнить это задание, хотя знают, что ни отличий, ни орденов им за это не будет... Этим людям было велено свыше построить башню, и они собрались сюда из разных земель, чтобы ее возвести. Но посмотри... в этом главное достоинство картины... она заставляет нас верить, что башня обречена, каждый работает, каждый делает свое дело, но башня идет чуть вкось, сюда вот посмотри, понимаешь?
На нас начали обращать внимание. Ульриха приняли за гида, чтобы рассеять это заблуждение, он отступил на шаг и продолжал шепотом:
— Видишь? Отсюда вот башня пойдет вкось, ее будут еще долго строить, еще здесь прольют немало пота для того, чтобы в один совершенно неотвратимый день башня рухнула. Ей не дано другого. Ее строили люди, говорившие на разных языках и не понимавшие друг друга. Пойдем посмотрим дальше.
— Я еще немного постою.
— Нам идти дальше или ждать? — Аннемари не слушала рассказа Ульриха, это была для нее прописная истина, она рассматривала соседние картины, а заодно сухопарую даму в мексиканской накидке, увешанной разноцветными металлическими пластинками. Поведя носом и выразив тем самым отношение к костюму, Аннемари не спеша двинулась за братом.
Мне хотелось побыть немного одному и подумать о том, что сказал Лукк.
Они убеждены, что у каждой нации свое предназначение и свои цель, цели разных наций не могут совпадать, всякое сотрудничество между ними обречено на провал, им не понять друг друга... Из великого множества фактов, которые дает история и которые дает современная жизнь, они выбирают только факты, укладывающиеся в рамки их философии, — остальное не желают признавать. Что знают они о сотрудничестве наций в Советском Союзе? О возможностях и резервах этого сотрудничества?
Меня подозвала Аннемари, она не может долго жить так, чтобы не высказать своего мнения, не привлечь чьего-то внимания... Она стояла у этюда к картине «Венера и дельфин» и спрашивала:
— А знаешь ли ты, как родилась Афродита? — После чего начала обстоятельно пересказывать миф.
Одно из первых моих приобретений в Мюнхене — электропатефон. Дядя дал мне «на первое время» триста пятьдесят марок — не могу сказать, что я с чистым сердцем взял их, но потом решил: если все пойдет как надо, сумею рассчитаться. Жил я скромно; патефон же купил но совету Аннемари.
— Ты не знаешь нашей современной музыки, семьдесят марок — деньги небольшие, я бы на твоем месте не раздумывала.
Она помогала мне подбирать пластинки. Первое время по не выветрившейся домашней привычке мне все хотелось завести пружину, но патефон обходился без моей помощи, а вдобавок имел хитрое устройство — едва пластинка кончалась, игла подпрыгивала и аппарат выключался сам собой.