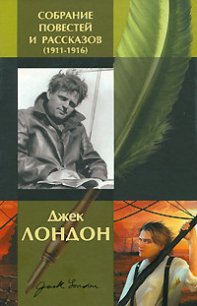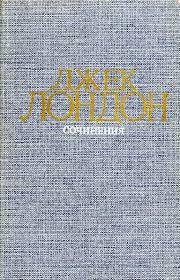На циновке Макалоа - Лондон Джек (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
«Запасись терпением, Белла, — отвечал он, бывало. — Очень скоро, через несколько лет, те, кто сейчас гнушается сидеть за нашим столом и спать на наших простынях, будут гордиться, получив от нас приглашение, — если они к тому времени не умрут. Вспомни, как умер в прошлом году Стивенс, — он жил легкой жизнью, всем был другом, только не себе самому. Хоронить его пришлось обществу, — он ничего не оставил, кроме долгов. А разве мало других идут той же дорогой? Вот хотя бы твой брат Хэл. Он этак и пяти лет не протянет, а сколько горя доставляет своим дядьям. Или принц Лилолило носится мимо меня на коне со свитой из полсотни гавайских лодырей — все крепкие парни, им бы надо работать и позаботиться о своем будущем, потому что он никогда не будет королем. Не дожить ему до этого».
Джордж был прав. Брат Хэл умер. И принц Лилолило тоже. Но Джордж был не совсем прав. Он сам, хотя не пил, и не курил, и не растрачивал силу своих рук на объятия, а свои губы на поцелуи, кроме самых коротких и равнодушных, и всегда вставал с петухами, а ложился прежде, чем в лампе выгорит десятая часть керосина, и никогда не думал о собственной смерти, — он сам умер еще раньше, чем брат Хэл и принц Лилолило.
«Запасись терпением, Белла, — говорил мне дядя Роберт. — Джордж Кастнер — человек с большим будущим. Я выбрал тебе хорошего мужа. Твои нынешние лишения — это лишения на пути в землю обетованную. Не всегда на Гавайских островах будут править гавайцы. Свое богатство они уже упустили из рук, упустят и власть. Политическая власть и владение землей неотделимы одно от другого. Предстоят большие перемены, перевороты-никто не знает, какие и сколько, но одно известно: в конце концов и власть и землю захватят белые. И когда это случится, ты займешь первое место среди женщин наших островов, — я в этом не сомневаюсь, как и в том, что Джордж Кастнер будет правителем Гавайев. Так суждено. Так всегда бывает, когда белые сталкиваются с более слабыми народами. Я, твой дядя Роберт, сам наполовину белый и наполовину гаваец, знаю, о чем говорю. Запасись терпением, Белла».
«Белла, милая», — говорил дядя Джон; и я понимала, сколько нежности ко мне живет в его сердце. Он, благодарение богу, никогда не советовал мне запастись терпением. Он понимал. Он был очень мудрый. Теплый он был, человечный, а потому и более мудрый, чем дядя Роберт и Джордж Кастнер, — те искали не возвышенного, а земного, вели счета в толстых книгах и не считали удары сердца, бьющегося рядом с другим сердцем, они складывали столбики цифр и не вспоминали о взглядах, словах и ласках любви. «Белла, милая», — говорил дядя Джон. Он понимал. Ты ведь слышала, что он был возлюбленным принцессы Наоми. Он был верным любовником. Он любил только раз. Люди говорили, что после ее смерти он стал какой-то странный. Так оно и было. Он полюбил один раз и навеки. Помнишь его заповедную комнату в Килохана, куда мы вошли только после его смерти, и оказалось, что там был устроен алтарь принцессе? «Белла, милая», — вот все, что он мне говорил, но я знала, что он все понимает.
Мне было девятнадцать лет, и три четверти белой крови не убили во мне горячего гавайского сердца, и я не знала ничего, кроме детских лет, проведенных в роскоши Килохана. Королевского пансиона в Гонолулу, да моего серого мужа в Наала с его серыми рассуждениями, трезвостью и бережливостью, да двух бездетных дядьев, одного — с холодным, проницательным умом, другого
— с разбитым сердцем и вечными мечтами о мертвой принцессе. Нет, ты только представь себе этот серый дом! А я выросла в таком довольстве, среди радостей и смеха, не смолкавшего в Килохана, и в Мана у Паркеров, и в Пуувааваа! Ты помнишь, мы жили в те дни в царственной роскоши. А в Наала, — поверишь ли. Марта, — у меня была швейная машинка из тех, что привезли еще первые миссионеры, маленькая, вся дребезжащая, и вертеть ее нужно было рукой.
К нашей свадьбе Роберт и Джон подарили моему мужу по пяти тысяч долларов. Но он попросил сохранить это в тайне. Знали только мы четверо. И пока я на своей дребезжащей машинке шила себе грошовые платья, он покупал на эти деньги землю — ты знаешь где, в верховьях Наала, — покупал маленькими участками и всякий раз отчаянно торговался, притворяясь последним бедняком. А сейчас я с одного туннеля Наала получаю сорок тысяч в год.
Но стоила ли игра свеч? Я изнывала от такой жизни. Если бы он хоть раз обнял меня по-настоящему! Если бы хоть раз пробыл со мною лишних пять минут, позабыв о своих делах и о своем долге перед хозяевами! Иногда я готова была завизжать, швырнуть ему в лицо горячую миску с ненавистной овсяной кашей или разбить вдребезги мою швейную машинку и сплясать над нею, как пляшут наши женщины, — лишь бы он вспылил, вышел из терпения, озверел, показал себя человеком, а не каким-то серым, бездушным истуканом.
Вся скорбь сбежала с лица Беллы, и она искренне и весело рассмеялась своим воспоминаниям.
— А он, когда на меня находило такое, с важным видом оглядывал меня, с важным видом щупал мне пульс, смотрел язык и советовал принять касторки и пораньше лечь, обложившись горячими вьюшками, — к утру, мол, все пройдет. Пораньше лечь! Мы и до девяти-то часов редко когда засиживались. Обычно мы ложились в восемь, — экономили керосин. У нас в Наала обедать не полагалось, — а помнишь за каким огромным столом обедали в Килохана? Мы с Джорджем ужинали. Затем он подсаживался поближе к лампе и ровно час читал старые журналы, которые брал у кого-то, а я, сидя по другую сторону стола, штопала его носки и белье. Он всегда носил дешевые, жиденькие вещи. Когда он ложился спать, ложилась и я. Разве можно было позволить себе такое излишество — пользоваться керосином в одиночку! И ложился он всегда одинаково: заведет часы, запишет в дневник погоду, потом снимет башмаки — обязательно сначала правый, потом левый — и поставит их рядышком на полу, со своей стороны кровати.
Чистоплотнее его я не видела человека. Он каждый день менял белье. А стирала я. Чист он был просто до противности. Брился два раза в день. Тратил на себя больше воды, чем любой гаваец. А работал больше, чем любые два белых человека вместе взятых. И понимал, какие сокровища скрыты в водах Наала.
— И он дал тебе богатство, но не дал счастья, — сказала Марта.
Белла со вздохом кивнула головой.
— В конце концов, что такое богатство, сестрица Марта? Вот я привезла с собой на пароходе новый «пирсарроу». Третий за два года. Но, боже мой, что значат все автомобили и все доходы в мире по сравнению с другом — с единственным другом, любовником, мужем, с которым можно делить и труд, и горе, и радость, с единственным мужчиной…
Голос ее замер, и сестры, задумавшись, молчали, а по газону ковыляла к ним, опираясь на палку, древняя старуха, сморщенная и сгорбленная под тяжестью сотни прожитых лет. Глаза ее — щелочки между ссохшихся век — были острые, как у мангусты. Она опустилась на землю у ног Беллы и забормотала беззубым ртом, запела по-гавайски хвалу Белле и всем ее предкам, заодно импровизируя приветствие по случаю возвращения ее из плавания за большое море — в Калифорнию. Не переставая петь, она ловкими старыми пальцами массировала обтянутые шелком чулок ноги Беллы, от щиколотки вверх, за колено.
Потом Марта тоже получила свою долю песен и массажа, и обе сестры со слезами на глазах заговорили со старой служанкой на древнем языке и стали задавать ей извечные вопросы о ее здоровье, годах и праправнуках, — ведь она массировала их еще в раннем детстве, в огромном доме Килохана, а ее мать и бабка из поколения в поколение массировали их мать и их бабок. Побеседовав со старухой сколько полагалось, Марта поднялась и проводила ее до самого дома, где дала ей денег и велела красивым и заносчивым горничным японкам позаботиться и столетней гавайянке, угостить ее «пои» — кушаньем из корней водяной лилии, «йамака» — сырой рыбой, толчеными восковыми орехами «кукуи» и водорослями «лиму», которые нежны на вкус и легко разминаются беззубыми деснами. То были старые феодальные отношения: верность простого человека господину, забота господина о простом человеке; и Марта, в которой было на три четверти белой крови англосаксов Новой Англии, не хуже чистокровных гавайцев помнила и соблюдала быстро исчезающие обычаи седой старины.