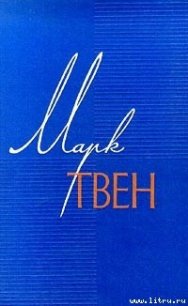Рубин эмира бухарского - Казанин Марк Исаакович (книги полные версии бесплатно без регистрации .TXT) 📗
— Вы что же это фокусничаете? Или обидеть меня решили?
Катя смотрела на меня и на Пашу в очевидном замешательстве.
В это время вернулся Ратаевский.
— Ну вот, Борис, надеюсь, вы, по крайней мере, не будете кривляться. Садитесь завтракать.
— С удовольствием, — сказал слегка запыхавшийся Борис. — Куда разрешите?
Нас выручил Эспер Константинович:
— Вы знаете, мы с удовольствием будем завтракать все вместе, но не как гости, а как участники. Паша, Глеб, вытаскивайте, что у вас есть. Я вношу яблоки, — он вытащил мешок из-под лавки, — и вот еще консервы.
У нас, к сожалению, был только черный хлеб, ржавые селедки и купленный на базаре самодельный постный сахар. Ратаевский чуть покосился на такое угощение. Катя с радостью взялась чистить селедку и класть ее на хлеб.
Так мы, на коммунальных началах, продолжали наш путь.
Все это может показаться не идущим к делу, не связанным с рубином, но такова была последовательность событий, и только так, как люди, вещи и факты входили и выходили из поля моего зрения, я могу их описывать.
После завтрака Паша и я вышли в коридор, чтобы дать Толмачевым возможность побыть одним, а через минуту к нам присоединился и Листер. Мы смотрели в окно. Поезд подходил к какой-то узловой станции. Начали мелькать боковые пути, порожние вагоны, заржавленные, валявшиеся по обочинам скаты, мертвые паровозы. Сколько их было тогда на Руси!
На этой станции Паша, Листер и я прошли вдоль всего нашего поезда. Он состоял примерно из трех десятков товарных вагонов; большая часть из них была запломбирована и забита накрест тяжелыми брусьями; несколько вагонов были приспособлены под теплушки; в одной весело пылала походная печурка, вокруг сидели красноармейцы и кое-где поблескивали стволы ружей.
Мое внимание прежде всего привлекли дощечки на каждом вагоне с надписью краской: «Пролетарский Петроград — революционному Туркестану». Движимый любопытством, я остановился возле одной из этих довольно неаккуратно и наспех написанных дощечек и вопросительно поглядел на Павла.
— Подарки везем, — лаконически отозвался он.
Мне сразу стало ясно, что мы находимся в составе неприкосновенного маршрутного эшелона. Впереди зеленел единственный классный вагон — это мог быть только наш. У подножки тамбура стояла толпа.
Подойдя ближе, мы увидели, что шло препирательство между молодым высоким военным в галифе, с небольшим щегольским револьвером у пояса, и начальником станции, который упрямо, по-видимому в сотый раз, повторял:
— Вагон дальше идти не может. Надо менять бандажи. Другого классного вагона у нас нет, но, может быть, этот в течение суток приведем в порядок. Безобразие, что вас пропустили без осмотра на Званке.
— Так что же? — уже беспомощно, видимо сдаваясь, спросил молодой человек с револьвером. Это был, как видно, комендант нашего эшелона.
— Ну вот, сгружайте вещи, если не хотите, чтобы их увезли с вагоном в депо, и ждите. Я дам вам где поместиться. Эшелон ваш я с этого пути не сдвину, а завтра в это время тронетесь, — ответил начальник станции.
— Выгружаться! — скомандовал комендант и пошел вдоль поезда. — Предупредите всех в вашем вагоне, — сказал он нам.
Началась обычная в таких случаях суматоха. Толмачев и Листер поднялись к себе. Паша ушел по какому-то делу с комендантом, на ходу бросив мне и Кате:
— Зайдите в купе к Ратаевскому, пусть выгружается, а если его нет, возьмите его вещи и перенесите.
Мы с Катей постучали в последнее купе, но никто не отозвался. Тогда я открыл дверь, взял вещи Ратаевского, скатал в одеяло, и мы вышли. Катя спрыгнула первой, я протянул ей узел. В это время поезд дернуло (очевидно, маневровый паровоз пробовал свои силы), узел ударился о поручни вагона, развалился, и его содержимое рассыпалось по земле. Мы с Катей бросились собирать.
Внезапно Катя покраснела, как краснеют только очень молодые девушки. Она держала что-то в руках, не подымаясь и не глядя мне в лицо. Я наклонился к ней. Катя подняла глаза, и я увидел, что они были совсем темные от гнева.
Я ничего не сказал, но если бы Ратаевский был там, не колеблясь загнал бы его под колеса.
В это время подошел Паша с тяжелым ящиком на плечах. У него реакция была быстрее и четче, чем у меня, да и жизненный опыт несравненно больше моего. Одного взгляда ему оказалось достаточно, чтобы понять, в чем состояла причина замешательства. Он поставил ящик, взял с Катиной ладони находку, сунул ее в карман, вновь взвалил ящик на спину и сделал нам знак следовать за ним на вокзал.
Начальник станции поместил нас в строении в конце платформы, где когда-то была багажная касса и сарай. Александра Ивановна и Катя устроились в кассовой будке, где еще сохранилась небольшая плита, которую Паша тут же растопил, а мы — в прилегающем к ней сарае.
Вечером, после вкусного чая в кассовой будке, женщины остались одни, как они сказали, помыться и постирать, мы же распрощались и ушли в сарай. Спать мы собирались на чудом уцелевших от набегов искателей топлива широких багажных полках. Пока старшие сидели на лавках вокруг ящика, на котором стоял принесенный из будки чай, Паша и я прилегли, чтоб не навязывать свое общество.
Листер и Толмачев продолжали начатый разговор.
— Как же вы смотрите на революцию, Владимир Николаевич? — спросил Листер.
— А никак, — ответил Толмачев, — она меня мало касается.
Листер молча посмотрел на Толмачева. Тот понял, что это был вопрос, и пояснил:
— Видите ли, что мужички поотбирали землю и поделили имения, никак меня не затрагивает, так как у меня никакой земли не было. Что же касается той области, которой я занимаюсь, то для нее, в конце концов, безразлично, что происходит на белом свете. Мы едем в Туркестан искать следы поселений более чем двухтысячелетней давности, основанных еще в эпоху Александра Великого; они погребены под мощными слоями песка, речных отложений, каменных осыпей, лёсса и нисколько не меняются оттого, что происходит на земле; даже наоборот, чем больше бурь, возмущений и катаклизмов наверху, тем более неизменными остаются, погребения, так как глубже уходят под землю; так же, как на морское дно не влияет, происходит буря на поверхности или нет. И потом, — продолжал Толмачев, — нельзя себя заставить определить свое отношение ко всему на свете. Вот, скажем, разразится гроза и вы спросите меня, как я к ней отношусь. Я не сумею вам ответить, плохо или хорошо, рад или не рад. Гроза есть гроза.
— Да, гроза есть гроза, — задумчиво подтвердил Листер.
— Но вы простите, Эспер Константинович, — продолжал Толмачев, — поскольку мы едем вместе, скажите: вы тоже из нашей братии археологов, хотя, признаюсь, я вашей фамилии не слыхивал?
— Нет, я солдат, — ответил Листер просто.
— Что же, участвовали в войне?
— Да, еще в японской.
— Артиллерист?
— Почему вы так думаете?
— Так мне показалось. Впрочем, прошу прощения, я, кажется, низко взял. Генерального штаба?
— Нет, — рассмеялся Листер, — вы угадали первый раз. Как раз артиллерист.
— Михайловского?
— Нет, Константиновского. Даже был фельдфебелем роты в училище.
Толмачев вздохнул:
— У меня двое сыновей легли, один еще в Восточной Пруссии, он был Михайловского, а другой — в Галиции. Вот мы с Александрой Ивановной и остались одни.
Листер промолчал.
Воцарилась пауза, такая грустная и такая знакомая в те годы, когда все считали ушедших.
— Ну, а вы как живете с большевиками? — прервал молчание Толмачев.
— Живу.
— Ведь вы кадровый?
— Кадровый.
— Ну и как?
— Да, как вы сказали: гроза есть гроза!
— Теперь это уже вы говорите, — улыбнулся Толмачев.
— Да ведь, в конце концов, — продолжал Листер, — отечество одно, народ один, служба одна, в основном ничего не меняется. Люди как деревья: если корни уходят достаточно глубоко, дерево переживет все бури.