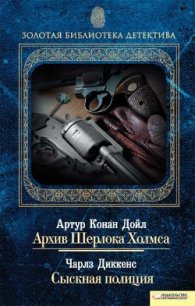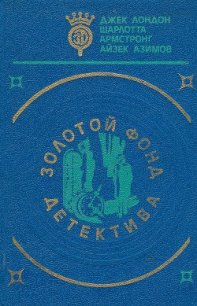Приключения 1990 - Молчанов Андрей Алексеевич (читаем книги онлайн без регистрации .txt) 📗
— Теперь сугубо личный вопрос, — говорит главный. — Я слышал, у вас есть контакты с автосервисом... хорошие мастера, приличные люди...
У главного — «Волга».
— Сделаем, — механически отвечаю я, вспоминая Игоря.
— Капитальный ремонт передней подвески, смена рессор, амортизаторов, карданного вала, — жестко уточняет главный. — Только если обещаешь — наверняка. Трепачей не люблю.
Я составляю из указательного и большого пальца «нолик», фиксирую его в жесте «считайте — исполнено», и мы расстаемся.
Машины, машины... Вся жизнь — около вас. Сначала уютом нас привораживаете, а после начинаете обкрадывать — по всем статьям. И диктовать, как людям с людьми отношения строить. И не в плохо налаженном сервисе дело, в ином — в укладе жизни, в ритме ее...
Звоню Игорю — человеку в данном смысле вообще обобранному подчистую и пропащему вконец. И получаю решительный отказ:
— Нет. «Додж» надо красить, потом со своим тарантасом разбираться, никак! Но Эдика тебе выделяю. Кстати, давай с ним на пару, чего? Окунись в среду, правильно выражаюсь? Будет материал. Да еще и заработаешь на своем командире.
Вот так да. А я надеялся... Но отказать шефу теперь невозможно, неправильно поймет. Как опасны твердые обещания! Влип. А, отовремся! Умер мастер. Хотите — идите воскрешайте. Точка. Займемся делами. Дела — это передачка. И опять туго с афоризмами. Сочиняю: любое добро наносит урон Злу. Нет, фраза для бумаги, а не для эфира. А ведь ничего так залепил... Жаль.
Раздражаюсь. Обрыдло! Передачки, передачки... А может, написать стихотворение? Прямо сейчас. Пересилить себя, заставить и написать. А, телефон! Выдергиваю вилку из розетки.
Ну-с, стихотворение. О чем? Сижу, глядя в окно на «Жигуль». А ничего покрасили... Сумятица образов, воспоминаний и, наконец, ощущение находки... Легкое, как прикосновение крыльев — беззвучных, мягким дуновением скользнувших возле виска и тут же пропавших, растаявших... Завороженно смотрю в детство: июльский теплый лес, пыльная дорога, бирюзовое поле овса; раздвигая хлесткие ветки елок, выхожу на луг; стрекотание жизни в травах, лиловые грозди колокольчиков, парной запах хвои, цветов; рыжая россыпь лисичек и ветхой прошлогодней листве; пирамиды муравейников; я упоен этой подлинной, зеленой жизнью и вдруг — внезапный, отрезвляющий диссонанс: туша мертвой коровы, разлагающаяся на пожелтелом от зловония пятаке травы...
Ничего сюжетик. Так. Э... «Шел я...» Фу-ты... «...лесом, видел беса, бес картошечку варил». Э... так: «Лес. Влаги, жизни исполненный...» Не то, не то! Стоп. Не описывать же корову? Ну гадость, что дальше? А потом — корова. Ладно бы лось какой. А может, убитый герой? Занесло, идиота! «Все живое прекрасно, и все мертвое чуждо живому...» Так-так, дружище... «Лес. И луг. И небес синева...» Понятно, синева, не серобуромалиновость. На фиг! Займемся передачкой. Корова... Деятель!
А что, если прозу? Не сию минуту, ясное дело, но иметь в виду? Пусть сатирическую. Но не фельетонную, а истинную, большую. Чтобы была жизнь, но не карикатурная, не условная, а такая, как есть, — с живыми, дышащими, страдающими людьми, без потуг на гротеск, а уж если и гротеск, то амплитудой до неба, уродливо расплывающийся... А могу я действительно написать что-либо стоящее? Вот о своей жизни разве что? Без прикрас. Телеграфным стилем.
Задумываюсь. Идея поначалу кажется ослепительной; о, это был бы роман века! — но потом как-то меркнет... Сама собой.
Я беру перо и вывожу очередную строку передачки. Внезапно, едва не до слез расстраиваюсь. Все не так! Хочу в небеса, а ползаю червяком. Не выйдет из меня ни поэта, ни прозаика. И должность ответственного секретаря, по-моему, замечательная должность! А в нашей редакции, где завотделами — люди серьезные и каждое слово вымеривают сто раз, то и читать разучишься, все равно до пенсии с этим недостатком досидишь и не допрет никто, а в случае чего и главный надо мной, и замы... Институт вот закончу...
В унылом кружении этих мыслей прибываю домой. Сын в детском саду, тесть на работе, жена тоже — она у меня хирург, режет небось сейчас вовсю... Теща, по случаю пенсионного возраста, слоняется из угла в угол и беспрерывно пользуется благом телефона. Делюсь с ней своим успехом продвижения по службе. Сдержанно поздравляет.
Сажусь за стол. И тут же вскакиваю. Везде столы! Эх, не сидится на месте, не радуется... А причина — любовь. Теперь точно знаю, что любовь, и не менее точно, что блажь это, а не любовь. У нее — свое, у меня — свое, а то, что было на квартире у Игоря, — дурной сон. Все как-то внезапно, грязно, будто оба делали гнусность, знали, что делаем именно ее, и торопились сделать поскорее, чтобы поскорее и расстаться. Боже, да разве это любовь? Или повинны жесткие обстоятельства быта? Нет... Любить мы не умеем, наверное. Либо не научились, либо разучились, либо просто времени на такую роскошь не хватает...
Звонить ей я не в состоянии. Да и что сказать? Воспоминания у нее от этого рандеву тоже не лучшие, но если я скорблю за обоих, то меня ее воображение рисует в однозначном варианте: хитрой, развратной скотиной. И правильно рисует!
Не обедал. Хочу сказать теще, что не обедал, но теща улеглась на кровать и млеет как мумия, с головой укутавшись в плед, — то ли дремлет, то ли усекла, что меня надо накормить, и притворяется, что дремлет. Она готовить не любит, и это дело предоставляет жене, то бишь дочери. У тещи, между прочим, существует любимая поговорочка: мол, настоящая женщина должна уметь сделать из ничего винегрет, шляпку и скандал. Шляпку она действительно в состоянии, она на них помешана — все шьет, шьет, как в ателье, и барахла у нее — шкаф доверху, и скандал запросто, а вот винегрета от нее не дождешься.
Холодильник набит полуфабрикатами, но так, чтобы разогреть и поесть, — ничего. Начинаю готовить суп. На семью. Благое намерение. И имеется к тому же все. Куриная нога, морковь, бородавчатая картошка. Когда варево закипает, вспоминаю о соли. Соли нет. Вечно какая-нибудь сволочная мелочишка испакостит все дело!
Отправляюсь за солью в магазин. В универсам. Неологизм, ха-ха.
Покупаю брикет соли, иду сквозь толпу к кассе и вдруг — ее глаза. Прямо передо мной. Заслоняют все. Обмираю, как на краю бездны. Затем выдавливаю из себя улыбочку: что, дескать, делаешь тут, в универсаме? Жратву, дескать, покупаю, такие заботы. Ну вроде и разбежались. Тем паче вижу: неприятна для нее эта встреча, вижу надменную отчужденность в серых, больших глазах ее, оттененных от матовой бледности лица синяками усталости, бессонницы... слез? Последнее пугливо увязываю с собой. Или враки, чего там расстраиваться? Значит, разбежались? Нет. Не могу, Хожу за ней дураком со своей солью, смотрю, как она берет сок, сыр, молоко, помогаю укладывать все это в сумку; после секундного замешательства принять помощь она соглашается, но не сказать, чтобы с охотой... Народ реагирует. Обращает внимание. На меня, конечно, никакого, все — на нее, но мне приятно. Такая женщина. Может, думают, муж... Счастливчик, такую бабу отхватил. Да, муж у нее счастливчик, везет некоторым. А вдруг и воет от нее, кто знает? Вот бы потолковать по душам.
У выхода я сумку забираю. Она пытается спорить и даже «выкает», но тут поскальзывается на ступеньках, я подхватываю ее за талию и целую. Прямо на улице. Что будет? Стылое, убийственное презрение. Но я не смущен, и взгляд мой строг. Я кладу ее руку себе под локоть, в тот же момент чувствуя, как сопротивление в ней уступает безразличной покорности, будто лопнула перетянутая струна и там, где она тянулась, — пустота. Провожаю ее домой. Идем молча. Рука ее мертва, лицо отрешенно...
Меня пробирает дрожь, я возбужден до ломоты в зубах. Я люблю эту женщину, люблю, и, видимо, свела нас судьба не понарошку, а всерьез, и чем-то это кончится. И может, плачевно кончится, но отчаянный восторг охватывает меня, и, как глоток штормового ветра, хлестнувшего в лицо, я пронзительно-сладко ощущаю: это жизнь!
Вхожу с ней в подъезд. Она противится, но я вхожу. И, обняв, целую вновь. С мороза щека ее пахнет дымом костра.