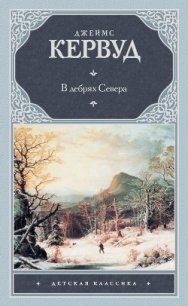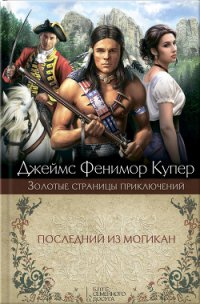В дебрях Севера - Кервуд Джеймс Оливер (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
На этот звук мрачная чаща, полная затаившихся тварей, ответила жуткими шорохами в перепутанных ветвях, непонятным ропотом шепчущихся голосов, зловещим щелканьем клювов, которые могли разодрать тощее тельце Питера на мелкие клочки. В глубине леса раздался сильный треск и насмешливое бормотание дикобраза, а потом вопросительный вопль: «У-уу-уух!» Питеру сначала даже показалось, что это кричит человек. И он вновь, дрожа, припал к толстому хвойному ковру: его сердце отчаянно билось о ребра, баки стали дыбом от смертельного страха. Затем наступила тревожная, наводящая ужас тишина, и в этом ледяном безмолвии Питер тщетно вертел головой, стараясь увидеть хотя бы отблеск исчезнувшего солнечного дня. И вдруг, принося с собой надежду, до него долетел новый шепот, тихий и неясный, но совсем не похожий на прежние звуки. Где-то еле слышно журчала вода. Питеру было знакомо это дружелюбное журчание. Он не раз играл на гальке, песке и камнях там, где оно рождалось. Мужество вернулось к нему, он поднялся и пошел туда, откуда доносился этот звук. Что-то подсказывало ему, что ступать надо очень осторожно, но неуклюжие толстые лапы упрямо разъезжались и он несколько раз падал носом в хвою. Наконец он добрался до ручейка, который плескался и играл на обнаженных древесных корнях — такой узенький, что высокий человек без труда перешагнул бы через него. И тут Питер увидел впереди свет. Он пустился бегом и вскоре выбрался на луг, где под синим солнечным небом по-прежнему благоухали цветы, зеленела трава и весело пели птицы.
Питер забыл пережитый страх. Комок в горле исчез, сердце вернулось на обычное место, и щенок уже неколебимо и яростно верил, что успел победить всех на свете. Он оглянулся на темный проход под еловыми ветками, из которого выбегал смешливый ручей, и неторопливо затрусил прочь, вызывающе огрызаясь. На безопасном расстоянии он остановился и посмотрел по сторонам. За ним никто не гнался, и это подтверждало, что он совершил великий подвиг. Питер весь раздулся от гордости; воинственно упершись передними лапами в землю, он выгнул спину и залился самым грозным своим лаем. Он лаял, скреб лапами землю, рвал траву острыми щенячьими зубами — и все-таки никто не посмел выйти из темной чащи в ответ на его вызов.
Задрав голову и поставив уши торчком, Питер неторопливой рысцой взбирался по склону, впервые за всю свою трехмесячную жизнь пылая желанием задать кому-нибудь трепку — все равно кому. Он стал другим, и теперь ему уже было мало грызть палки или камни и трепать кроличью шкурку. Когда Питер выбрался из впадины, он остановился и, глядя вниз, громко тявкнул — ему уже почти хотелось вернуться в эти темные заросли и разогнать всех их обитателей. Потом он повернулся к Гребню Крэгга, и его боевой задор внезапно угас, а задранный хвост опустился, так что узловатый кончик коснулся земли.
Ярдах в четырехстах от него из райской ложбины, которая переходила в расселину, разделявшую два отрога Гребня, поднимался белый дымок. Увидев дым, Питер тут же расслышал и стук топора. Его пробрала дрожь, но он все-таки пошел на этот стук. Он был еще слишком мал, чтобы ненавидеть по-настоящему, и к тому же унаследовал кроткое добродушие своей матери, но тем не менее каждый раз, когда Питер слышал стук этого топора, в его смышленой головенке зрели тревожные мысли и он чувствовал приближение опасности. Ведь стук этот был для него неразрывно связан с похожим на кошку остролицым человеком, у которого по верхней губе тянулась полоска рыжей щетины, а один глаз никогда не открывался. И Питер научился бояться одноглазого гораздо больше, чем он боялся призрачных чудовищ, скрытых в черной пропасти леса, куда он сегодня так отважно вошел.
Однако совы, дикобраз и убежавшая от него лиса с горящими глазами научили Питера чему-то, чего он еще не знал накануне, и, подойдя к краю ложбины, щенок не прильнул к земле, а остался стоять на своих кривых лапах и смело устремил взгляд вперед. По ту сторону ложбины, у западного отрога, среди высоких кедров, ярко-зеленых тополей и белоствольных берез виднелась бревенчатая хижина. Это был прелестный уголок. Между тем местом, где остановился Питер, и хижиной простирался бархатистый зеленый ковер, усеянный цветами и источающий аромат фиалок и дикой жимолости, а над ним звенело птичье пение. Через лужайку бежал ручеек и исчезал в скалистой расселине, а на его берегу стояла хижина, увитая диким виноградом. Но настороженные глаза Питера не видели этой красоты, его уши не слышали ни птичьих трелей, ни болтовни рыжей белки, которая расположилась на пне по соседству. Он смотрел туда, где позади хижины на лесной опушке поднималась большая белая скала, похожая на гигантский гриб, а слышал он только удары топора, хотя и напрягал слух, стараясь уловить, не раздастся ли голос, который он любил больше всего на свете.
Не услышав этого голоса, он подавил желание заскулить, спустился к ручейку, перешел его вброд и тихонько подкрался к хижине, приглядываясь и прислушиваясь, готовый при первом признаке опасности пуститься наутек. Он хотел позвать девушку обычным визгливым тявканьем, но угроза, таившаяся в стуке топора, заставила его отказаться от этого намерения. У задней стены хижины, где дикий виноград разросся особенно густо, Питер давно уже вырыл себе тайник, и теперь он нырнул в него, точно испуганная крыса в нору. Потом осторожно просунул щетинистую мордочку сквозь зеленый занавес и огляделся, проверяя, безопасно ли будет вернуться домой и много ли у него шансов получить ужин.
Но тут его сердце радостно забилось: сегодня топором стучала девушка, а не мужчина!
В нескольких шагах у большой поленницы сверкнули на солнце ее каштановые волосы, и когда она повернулась к хижине, Питер успел разглядеть ее бледное лицо. Он уже готов был броситься к ней, шалея от восторга, но его удержал ужасный голос, который всегда внушал ему невыразимый страх.
Из хижины вышел мужчина в сопровождении женщины. Мужчина был долговязым и тощим, а его лицо походило на череп. Едва он показался в дверях, Питер понял, что в этот день он был даже злее обычного. Тот, кто подошел бы к нему в эту минуту, неминуемо заметил бы, что от него разит виски. Уголки губ у него пожелтели от табака, который он постоянно жевал, а когда он мотнул головой в сторону девушки с блестящими кудрями, в его единственном глазу засветилось жестокое торжество.
— Муни обещал отвалить за нее семьсот пятьдесят долларов, когда начальство заплатит ему за шпалы, и дал мне пятьдесят долларов задатка, — объявил он. — Не задарма же я ее десять лет кормил, бездельницу. А как будет ближе к свадьбе, я из него и тысячу выжму.
Женщина ничего не ответила. Она была отучена возражать, а тем более настаивать на своем. Каждая черта безобразного лица, каждая линия костлявой фигуры одноглазого говорили о беспощадной жестокости. Женщина давно была сломлена и порабощена. Ее лицо казалось безжизненным. Глаза потускнели, сердце отупело от постоянной боли, руки заскорузли и искривились от тяжелой работы, которой замучил ее безжалостный негодяй. Но даже Питер, притаившийся под домом, как мышь, понимал, что эти двое непохожи друг на друга. Он не раз видел, как девушка и женщина плакали, обнявшись. А когда он тихонько подходил к женщине, ее пальцы порой ласково гладили его и она давала ему поесть. Но он почти никогда не слышал ее голоса, если мужчина был где-нибудь поблизости.
Мужчина откусил кусок табачной жвачки.
— А сколько ей лет, Лиз? — спросил он вдруг.
И женщина ответила неестественным, придушенным голосом:
— Двенадцатого ей сравнялось семнадцать.
Мужчина сплюнул.
— Придется Муни выложить тысчонку. Мы же ее десять лет кормили, а Муни по ней с ума сходит. Ничего, раскошелится!
— Джед… — Голос женщины стал почти звонким. — Джед… нехорошо эдак-то…
Мужчина захохотал. Он широко разинул рот, и на солнце блеснули пожелтевшие клыки. Девушка опустила топор и, повернув голову, посмотрела на пару в дверях.
— Нехорошо? — гоготал мужчина. — Нехорошо? Ты мне то же самое десять лет твердишь насчет тайной продажи виски, а я продавал и продаю. Верно? И это твое слово не помешает нам с Муни договориться насчет свадьбы… если, конечно, Муни раскошелится на тысчонку. — Тут он повернулся к жене и занес руку, словно для удара. — А если ты ей скажешь… если хоть вот на столечко меня выдашь, я тебе все кости переломаю! Разрази меня на этом месте, если не так. Поняла? Ничего ей не скажешь?